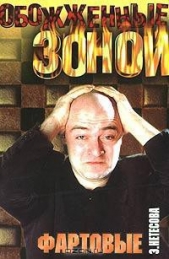Глухомань. Отрицание отрицания

Глухомань. Отрицание отрицания читать книгу онлайн
В романе "Глухомань" Борис Васильев, автор известных книг о князьях Древней Руси, обращается к современности.
Его герои живут "там, во глубине России", где "вековая тишина", но их не минуют все самые значительные события, потрясшие страну в 80-90-е годы, - Афганская война, перестройка, передел собственности...
Действие романа "Отрицание отрицания" разворачивается в период с революции 1917 года до начала Великой Отечественной войны.
В центре повествования - дворянская семья Вересковских, каждый член которой избирает свой путь...
Писатель называет Россию страной отрицания и пытается найти в прошлом истоки сегодняшних бед.
Содержание:
Глухомань
Отрицание отрицания
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто для веселья пьет, а мы — чтоб оттягивало. Кому что. Выпил я. Только мало помогло. Не оттянуло.
Приземлились мы в Клину, что ли. Выгрузили меня, велели в кабинет пройти. Прошел. Там какой-то чин из КГБ паспорт мой зарегистрировал, отдал, сказал на прощанье:
— Не болтайте там, в Глухомани своей. Все будет разъяснено своевременно и официально.
И пошел я на поезд до Москвы. Купил на рынке бутылку у спекулянта — борьба за трезвость продолжалась, — пирожков каких-то и пил всю дорогу.
Оттянуло. И когда из Москвы ночным поездом в Глухомань свою ехал, уже что-то в голове закопошилось. Косматое что-то, полухмельное, поскольку я вместо обеда еще бутылку в дорогу взял.
Вот о косматом и поговорим.
Потрясенный немилосердием гражданской войны, Горький, помнится, написал статью «О жестокости русского народа». О ней как-то все советское время не любили вспоминать, но любознательных отсылаю к его полному собранию сочинений. Он объяснял эту черту странным увлечением крестьянских грамотеев выискивать в житиях святых описания мучений куда чаще, чем, скажем, описания их нравственных подвигов. Но это, так сказать, любимое чтение, а откуда же само желание бить, топтать, унижать человека, который — заведомо! — тебе тем же не в состоянии ответить? Меня, например, били, как говорится, и фамилии не спросив: до сей поры ребро надломленное ноет, коли не так во сне повернусь. И руку заодно вывернули, несмотря на то что басовитый начальник велел просто отправить славянина в комендатуру, чтобы под ногами не путался. Откуда жестокость эта, откуда азарт ни в чем не повинных бить?..
Да оттуда же, откуда наш вековечный вопрос: «Ты меня уважаешь?»
Тысячу лет никто русского мужика не уважал. И никакого закона, никакого суда, душу его охранявшего, у нас отродясь не было. И сейчас нет. Нет такого закона, и, уверен, нескоро он еще появится, потому что вопрос «Ты меня уважаешь?» не заглох еще в русских душах.
Не закон правит нами, а — начальник. И коли этот начальник по каким-то там причинам дозволил покуражиться — покуражатся, не извольте беспокоиться. И не от свойственной нам любви к чтению мучений святых избранников Божиих, а — от дозволения свыше.
Ведь ударить кого-то — да еще заведомо безнаказанно! — значит, унизить его, опустить ниже себя, поэтому бьет всегда униженный внутренне. Бьет, устав унижаться, стремясь просто и задешево утвердиться хотя бы для самого себя. Для нас ударить другого — момент самоутверждения.
Нет, это — не закон Зоны, в которую превратили Россию. Просто Зона взяла то, что существовало. Зона не способна создавать, Зона способна только заимствовать то, что ей сгодится.
Именно поэтому Россия бьет жен своих. И жены, прекрасно понимая, почему бьет муж, мудро не сопротивляются ему прилюдно: так мужику легче. Русские женщины все понимают…
Этого комплекса — терпеть от раба — не понимают грузинские женщины. Потому-то и — два десятка, погибших в великом удивлении, а не в великой давке.
А армия — всегда слепок с народа своего. Всегда. Отсюда и дедовщина, и гибель Славика, и запланированный разгром молодежного митинга в Тбилиси. Разгулялась душа. Дозволили ей разгуляться…
— Бей чернозадых!..
Внутри этот крик засел. И ведь не избавишься от него, потому что — душой слышал. Не просто ушами.
С этим кличем в душе я в свою Глухомань и вернулся.
Абзац? Да нет, кончились абзацы. И черной главой кончилась первая часть.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Поезд в Глухомань нашу приходил поздно, но вокзальный ресторан еще работал. Я по-обедал там — есть уж очень хотелось, — а потом за взятку купил на все оставшиеся отпускные водки, кое-какую закуску и пробрался к себе. Заперся, спать завалился, только не засыпалось мне. До утра провертелся без толку, в муках, что я скажу жене Вахтанга и его сыновьям. Что Нину вызвали в морг для опознания?..
Ничего я тогда не знал ни о друге своем, ни о девочках. Что с ними случилось, с какой целью Нину в морг вызвали… Нет, понимал цель этого вызова: на опознание. Это — для милиции. А для семьи — что?.. Что я Лане скажу и футболистам Вахтанга?..
Но должен был идти. Побрился, в порядок себя привел, в кулак себя зажал и — пошел.
Долго шел. Шоссе кружным путем пересек, чтобы со знакомыми случаем не встретиться, и — закоулками к их дому. С кем-то, помнится, встречался все ж таки — городок у нас маленький, — здоровался, но — все на ходу, без разговоров. Один разговор во мне ворочался: что я Лане скажу? Сыны, конечно, в школе были, я специально время подобрал, но — Лана… Жена Вахтанга. Или — вдова?..
У подъезда, как на грех, ее соседку встретил. Спросила в упор:
— Что в Тбилиси?
— А что? — тупо перепросил я.
— Говорят, митинг какой-то. Отделения от Союза требуют.
— Да?.. — спросил. — Нет. Лана дома?
— Кажется…
Что-то еще хотела спросить, но я наверх пошел. Через три ступеньки.
Постучал. Нерешительно как-то, но Лана открыла сразу.
— Ты? А где Вахтанг?
— Там, — бормотал я торопливо и не очень вразумительно. — Там — митинг, Лана. На площади перед Домом правительства. Мы пошли на этот митинг, Вахтанга пропустили, а меня… Меня выслали из города. На военном самолете.
— А где же Вахтанг?
— Не знаю. Я думал, что ты знаешь. Тебе есть кому позвонить?
Лана куда-то собиралась — то ли в магазин, то ли на рынок. Была одета, с кошелкой. И села на табурет рядом с этой кошелкой.
— А ты почему не позвонил?
— У Нины нет телефона.
— Нет, — согласилась она. И вдруг остро глянула: — А твои вещи? Ты же у нее остановился. Тебе разрешили за ними зайти?
— Нет. Сказали, потом вышлют.
Господи, зачем же я солгал тогда? Зачем?.. От ее взгляда? От растерянности? От того, что — советский и нам куда легче солгать, чем сказать правду?
Только любящему сердцу не солжешь: женщины чуют нашу ложь, как кошки. Я поймал ее пронзительный взгляд и опустил глаза.
— Что с Вахтангом? — тихо спросила она. — Подними глаза и скажи правду.
Я поднял глаза. Выдержал ее взгляд и сказал:
— Я не знаю, что с Вахтангом, и это — правда. Знаю только, что…
И замолчал. Помнится, только губами последние слова пережевывал, а сказать… не мог сказать.
— Что?.. — с надрывом выдохнула она. — Что с твоим другом, мужчина?
— В морге. Нину на опознание вызывали.
Лана закрыла лицо ладонями. А я стоял на пороге и все чего-то ждал. Чего мы ждем, когда все и так яснее ясного? Может быть, чуда?..
— Уходи, — сказала она, не отрывая ладоней от лица. — Уходи, пожалуйста, уходи. И забудь, как в эту дверь стучат наши друзья…
2
И я пошел. В голове гудело, как в колоколе без языка: что-то вроде бы и колышется, а звуков нет. Пустота. Кого-то встречал, с кем-то здоровался, может быть, даже и улыбался кому-то, а вот говорить не мог. Ни с кем не мог и слова вымолвить.
Ноги меня к сберкассе привели, хотя я вроде бы туда идти и не собирался. Однако ногам тогда виднее было. Снял я почти все свои сбережения и направился прямиком по одному тайному адресу. Там пенсионер жил с нашего съедобно-стреляющего комплекса, и я знал, что гнал он очень даже неплохую самогонку, которая и позволяла ему сводить концы с концами. Он отоварил меня пятилитровым бидоном первача и старой пустой сумкой, и я пошел на рынок. Там хоть что-то купить можно было, хотя и подороже, поскольку в магазинах ничего не было, кроме нашей макаронной продукции. С этим грузом я и прибыл домой и двери на все запоры за собой закрыл.
Одиночества мне захотелось. Одиночества с первачом и квашеной капусткой. Выпил я крепко под эту капустку. В полном одиночестве пил, покуда колокол в голове не ожил.
А ожил он потому, что в самом начале моего пития я почему-то вспомнил «Двенадцать» Блока и почему-то начал декламировать вслух. Нет, не для того, чтобы память проверить, чтобы — понять не так, как нам в школе втолковывали. И — понял.