Одна неделя в июне. Своя земля
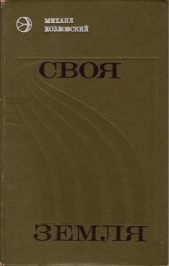
Одна неделя в июне. Своя земля читать книгу онлайн
Михаил Козловский принадлежит к поколению писателей 30-х годов. На первые его произведения обратил внимание М. Горький.
В эту книгу курского писателя вошли две повести: «Одна неделя в июне» и «Своя земля». Острота в постановке волнующих сегодня сельского жителя вопросов сочетается в повестях М. Козловского с тонкостью проникновения в душу крестьянина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И такая горько-сладостная отрава вошла в нее, что она, не стесняясь никого, уткнулась лицом в ладони, не в силах сдержать мучительно-радостных слез.
— Ну, Настя, дорогой наш секретарь и друг, и вы все, товарищи, — Николай Павлович выключил приемник, когда объявили о новом номере программы. — С праздником вас, с удачей наших девчат. Всей Рябой Ольхе радость… — Он поднял руку и коротко крикнул: — Ура!..
— Ура! — подхватили все.
— Никодим Павлыч, собирай на вечер правление, — подталкивал к двери бухгалтера председатель. — Надо обсудить, как девчат встречать будем. Ведь это такая победа!..
…Николай Устинович с полевой дороги выехал на асфальт. Переваливаясь с увала на увал, то вниз, то вверх, вьется он бесконечной серой лентой среди полей, в рамке лесных посадок. Кое-где у самой дороги, за кустами акаций и шиповника, за молодыми топольками, как линейные на параде, построились невысокие, в рост человека, яблоньки с яркой, необыкновенно свежей листвой. Иногда, растолкав по сторонам лесополосу, поближе к асфальту выбегают хлеба, шумя и волнуясь под ветром. Артемке посмотреть бы на эту красоту, но, утомленный рыбалкой и утренними приключениями, он спит, прислонясь головой к спинке сиденья. Мимо с гулом проносятся встречные машины, солнце ослепительно взблескивает в их фарах, и вот Николай Устинович весь уже во власти бесконечно меняющегося однообразия дорожного пейзажа. Он повернул рычажки приемника, немного спустя голос диктора сказал: «Благодаря усилиям наших ученых и в первую очередь…» — на следующей волне выплыл торжественный, набегающий медлительными волнами прибоя рокот вальса, его оттеснил быстрый прыгающий голос певца и сам унесся куда-то, отброшенный сильным и прекрасным женским голосом:
В сто голосов подхватил хор это наивное и торжественное ликование: «Лёлиньки, лёли, лели».
…Николай Устинович щелкнул рычажком: ничего интересного в эфире.
Своя земля
1
Владимир Кузьмич Ламаш приехал с полей, когда село спало, лишь в двух-трех хатах блекло светились оконца. Подвез его молокосборщик, возвращавшийся с маслозавода, и, пока ехали по селу, в тишине звякали, сталкиваясь, бидоны. Луна бежала за пепельно-серыми облаками, изредка выкатываясь на простор, и тогда четче становились черные тени деревьев и хат. На крышах самоцветами играла ночная роса. Под плетнями тускло темнели кусты лебеды и чернобыльника.
У своего дома Владимир Кузьмич слез с повозки и, шурша по бурьяну полами брезентового плаща, поплелся к калитке с одним желанием — спать. Молокосборщик загремел бидонами, погнал лошадь рысью. Сквозь белую занавеску на окне слабо желтел огонек притушенной лампочки, — значит, Нина, жена, не спит и ожидает его. Только при виде хаты Ламаш почувствовал, как устал и отупел, кажется, до того, что сил недостанет подняться по трем ступенькам деревянного крыльца, зайти в дом, раздеться и лечь. Он шел, прикрывая глаза огрузневшими веками, и каждый шаг доставался с трудом, — онемевшие ноги слушались плохо, словно их налило тяжестью, дорожка уплывала вбок.
Жена в самом деле ожидала его. При семилинейной лампе она читала книгу. Другая книга, раскрытая и поставленная на торец, загораживала свет от спящей в своей кроватке шестилетней дочери.
— Ты почему не спишь? — спросил Владимир Кузьмич, вешая плащ на гвоздь у двери. — И опять с этой лампешкой…
— Тише, — шепотом сказала жена. — Томку разбудишь, девочка прихворнула немного… Ты что так поздно? — Она поднялась, запахивая короткий халатик, и потянулась всем телом, сладко зевнула, забрасывая руки за голову, как только что пробудившийся ребенок. — Тебе три раза звонили из райкома, спрашивали, где ты.
— Кто звонил?
— Не знаю. Требовали, чтобы ты обязательно к десяти часам приехал. Да сердито так спрашивали, где ты, будто не знают, где может быть председатель. Возможно, случилось что-нибудь.
— Три раза, говоришь?
— Да, и все тот же голос… Ты хочешь есть? Пойдем на кухню, чтобы Томку не беспокоить.
Владимир Кузьмич тут же, у двери, стащил сапоги и в одних чулках пошел вслед за женою на кухню, куда она унесла лампочку, прикрывая свет ладонью.
— Я, признаться, и есть не хочу, устал ужасно, — сказал он, садясь на табуретку и утомленно протягивая ноги. — Молока разве.
Но пить начал жадно, большими глотками, чувствуя, как густое от скользких душистых сливок молоко, насыщая, освобождает от тупой усталости.
— Налей еще, — попросил он. — У меня, оказывается, волчий аппетит.
— Я сейчас разогрею обед.
— Не нужно, хватит и молока.
— Ты знаешь, не нравятся мне эти звонки, срочные вызовы, — наливая из корчажки в подставленную мужем кружку, говорила Нина. — Даже на сердце тягостно, все кажется, ты в чем-то провинился, что-то у тебя не так, за что-то тебя должны ругать.
— Да-а, там редко хвалят нашего брата, — задумчиво сказал Владимир Кузьмич.
— У тебя все в порядке? Я весь вечер была сама не в себе, а тут Томка раскапризничалась. Тебя ждала, насилу уговорила лечь… Ты только не сердись, мне все кажется, что у тебя что-то не ладится. Ну, какой ты председатель колхоза! Всю жизнь прожил в городе.
Она сидела по другую сторону небольшого кухонного столика, подперев голову ладонями. Волосы ее растрепались, глаза казались бездонно глубокими, и Владимир Кузьмич все время ощущал настойчивость ее встревоженного взгляда. Отставив в сторону пустую кружку, он тихо засмеялся:
— Ох, Нина, ты больше беспокоишься о моих делах, чем я сам, и всегда по пустякам. Отчего ты врач, а не учительница? Тебе следует иметь много детей, тогда не будет времени заботиться обо мне.
Нина медленно и грустно улыбнулась:
— Не глупи, у нас все должно быть общим… Как поздно уже, я приготовлю постель.
— Хорошо, только дай шлепанцы, покурю пока во дворе.
Он вышел на крыльцо, присел на ступеньках, и сразу же ночной холод облил под рубашкой спину и грудь. Белая, словно жестяная луна высоко поднялась над затихшим селом, была она четкая, круглая, как будто ее вычертили циркулем; тени от плетня, деревьев и домов сделались обугленно-черными, с резко обрубленными очертаниями. На буграх за селом горели фонари, и свет их казался желтым. Стояла та глухая ночная пора, когда сонный покой не нарушают ни собачий лай, ни пенье петухов, только с крыши с выдержкой капала роса: «кап», и через некоторое время снова — «кап, кап». Какая-то железка под сараем отзывалась летучим звоном, и ночь была полна перестукивания больших тяжелых капель. Невольно прислушиваясь, Владимир Кузьмич припомнил мужицкую примету: при обильной росе дождя не жди, а он нужен до зарезу: яровые вышли хилые, неровные, просвечивали малярийной желтизной. Один хороший дождь — и все поправилось бы, тогда, возможно, и придет тот небывалый урожай, которого ждут каждую весну. Потом стал припоминать и другие приметы и вскоре поймал себя на том, что снова думает о земле, о посевах, обо всем, что прошло перед ним за долгий, трудный и утомительный день, битком набитый большими и малыми заботами. Его постоянно одолевали хлопоты, сотни разных дел. У него уже не было ни желания, ни сил проникнуться любопытством к чему-нибудь постороннему, лишь обыденные мысли бродили в голове. Его вполне удовлетворяли простые, осязаемые дела, которые ставила жизнь: выезд в поле, ремонт машин, сев, жатва, уборка свеклы, снова сев, ночью — глубокий сон без сновидений после сильной усталости. Он с головой ушел в свои обязанности. Теперь и сам, сойдясь с такими же председателями, был не прочь похвастаться своей хозяйской расторопностью, пожаловаться на снабженцев и кооператоров, на дожди и бездождье, ругнуть районные учреждения за неповоротливость, огорченно махнуть рукой, если спрашивали, как идут дела в колхозе, — спрашивай, мол, у больного здоровья. Следуя привычной тактике своих предшественников, он был уверен, что ему невыгодно выскакивать вперед, — хвалиться пока нечем, а забот много, что-нибудь да и упустишь, а то, глядишь, и обнаружится какая-нибудь прореха, зачем же выставлять себя на посмешище. «Как пес на проволоке, бегаю из одного угла двора в другой», — говаривал он иной раз.























