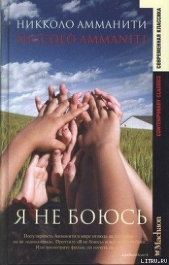Я догоню вас на небесах (сборник)

Я догоню вас на небесах (сборник) читать книгу онлайн
Заглавная повесть известного ленинградского писателя Радия Погодина, написанная на автобиографическом материале, исполнена высокой человеческой чистоты и доброты, которую автор встречал и в далеком детстве, и в страшные годы войны. Он верен памяти друзей, тех, кто не дожил до сегодняшних дней.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наталья погасила свет и чертыхнулась.
— Темно, как в склепе. Не могу в темноте спать. Пусть луна светит и звезды. — Она подняла светомаскировочную штору из плотной синей бумаги — в такую, похоже, заворачивали когда-то сахарные головы. Наверное, на меня повлияли девчонки, и я подумал совсем по-детски: «Теперь в нее заворачивают свет».
Окно, как и все окна в городе, было перекрещено косыми бумажными крестами.
Немец бомбил теперь каждую ночь.
Завыла сирена. Девочки подняли головы, послушали и сказали сонно и безбоязненно:
— Лучше умереть в своей чистой постели, чем подыхать заваленными вонючим кирпичом в вонючем бомбоубежище.
— Спать, — приказала им Наталья.
Девочки послушно уснули.
— Что это за дверь? — спросил я. За столом, где мне постелили, в стене была дверь.
— Теткина комната.
Я знал, что Наталья до замужества жила с теткой, и, когда вышла замуж, тетка отделила ее. Тетка была в Омске — уехала туда еще в июле выбивать жилье для своего завода. Ее завод эвакуировали из Ленинграда одним из первых.
— Нужно ее открыть, — сказал я вдруг осипшим голосом.
— Зачем?
— Жратва… Это ты вся не такая, а хорошая хозяйка обязательно держит дома запас. Не бегать же в магазин всякий раз, когда есть захочешь.
— Боже мой, — прошептала Наталья. — Как это мне в голову не пришло. Она же кулачка, лабазница — у нее коньяк всегда стоял в буфете и ассорти…
— На ключ закрыто или гвоздями?
— С той стороны шкафом заставлено. А с этой я щели бумагой заклеила, чтобы не дуло. Тетка с открытой форточкой живет. Ей всегда жарко — у нее бюст седьмого размера.
Стараясь не шуметь, мы отодрали бумажные полосы. Открыли дверь, она открывалась в Натальину комнату, и налегли на шкаф. Тяжелый, зеркальный, он пошел по намастиченному паркету, глухо урча.
Наталья скользнула в комнату первой.
— Закрывай дверь, чтобы девчонки не вскочили, я свет включу.
— Ты что, здесь светомаскировки нет. — Я втиснулся вслед за Натальей в теткину комнату, большую и светлую, в маленьких комнатах всегда ночью темнее, а большой потолок свет дает — оптика дело темное. «Самое темное дело — свет», — говорил мой брат Коля.
В зеркале я увидел себя — еще ничего. Я сделал мужественное лицо. И вдруг почувствовал жгучий стыд, и не потому, что стоял в трусах, и не потому, что в чужой комнате, которую пришел обобрать, нет, — мне стало ясно, что я тут лишний, и если уйду, все образуется, все будет правильно. Я попятился было, но Наталья остановила меня за руку.
— Не уходи, мне одной боязно.
— Чего боязно-то?
— Не знаю.
Мебель в комнате была тяжелая, полированная. У окна круглый стол стоял, у противоположной стены — буфет. Кровать деревянная. Диван кожаный, с высокой спинкой. На спинке слоники. Ближе к окну этажерка с патефоном. Даже картины в багетах и ковер над кроватью. Но что меня поразило и как-то погасило мой стыд — винчестер на ковре и кавалерийская шашка.
— Это моего отца оружие. Тетка отцу сестра, — сказала Наталья, угадав направление моего взгляда. — Не туда смотришь, — она на цыпочках подошла к буфету, открыла нижнюю тяжелую тумбу и стала перед ней на колени. Длинная ночная рубаха с рюшами придавала ее фигуре вид безгрешный и беззащитный.
Буфет был набит крупами, сахаром, макаронами. Там были консервы и постное масло. Даже бутылка водки. Коньяка не было — была малага. Наталья взяла бутылку, боднула меня головой в плечо и воскликнула шепотом:
— Давай тяпнем.
Я замялся, покраснел — она и в темноте заметила.
— Ты что, не любишь?
— Не знаю. Не пробовал.
— Вот те раз. Связался черт с младенцем. — Наталья нашла в ящике буфета штопор, открыла бутылку и налила в хрустальные тонкие рюмки черный густой напиток. От малаги пахло летом, изюмом и, может быть, розой. — За тебя, — сказала она. — Обе твои идеи оказались удачными.
— За девочек, — сказал я.
— Это и есть за них. — Наталья коленом шевельнула дверцу буфета. — Теперь я кум королю, сват министру и дочки мои с приданым. Душа у меня теперь поет, а сама я загорелая блондинка с ногой и бюстом. А на бомбы ихние я чихала.
Радио объявило отбой воздушной тревоги. Сигнала тревоги мы с Натальей не слышали.
Я выпил вино, как лекарство, на одном вздохе. Оно было сладким, жгучим и отдавало слегка жженым сахаром — так мне тогда показалось.
— Понравилось? — спросила Наталья.
— Вроде.
Наталья подошла к теткиной деревянной кровати, сдернула с нее покрывало, бросила его на диван, затем так же рывком раскрыла постель. Стянула через голову рубашку с рюшами, подошла ко мне и положила мою вялую от робости руку себе на грудь.
Она не была тощей, как казалось, — тело у нее было эластичным, спешащим навстречу руке.
— Так и умрешь, не попробовав ни вина и ничего, — прошептала она. — Ты хоть целовался когда-нибудь?
Мы уснули в теткиной постели. Но чуть рассвело, перешли в Натальину комнату. Наталья взяла с собой манной крупы и сахару.
На завтрак мы ели сладкую манную кашу. Посередине стола сверкало хрустальное яйцо.
Девочки рассказывали, что во сне они видели май — они плавали, как рыбы, и ныряли.
— Что-то мне не нравится, когда дети во сне плавают, как рыбы, — сказала Наталья. Пошла проверить постель своих дочек. Девочки надулись, и замолчали, и придвинули хрустальное яйцо к себе.
— Спасибо. Я пошел, — сказал я. — Пора. Трамвай сейчас редко ходит.
Трамвай действительно ходил редко. Набитый людьми, обвешанный людьми со всех сторон.
Я устроился на колбасе.
Я знал, что ни Наталью, ни ее девочек я больше не увижу. Мне мешал теткин буфет, как у всякой доброй хозяйки набитый бакалейным товаром, консервами — даже визигой. Вернее будет сказать, не «мешал» — стоял непреодолимой стеной. Мне казалось, Наталья подумает — я не к ней пришел и не к девочкам, а к буфету. Даже если она и не подумает, я сам так подумаю.
Утро было морозным, искристым. Перламутровый туман готовился стать снегом.
Я пришел к Писателю Пе за бумагой.
Писатель Пе с каким-то спортивным мужчиной пил пиво на кухне.
— Ардальон, муж Авроры, — представил мужчину Писатель. — Посмотри, какие у него кулаки. Он говорит, что именно мы с тобой за весь мировой бардак в ответе.
Ардальон упруго вскочил.
— Да, вы — прошедшие войну. Вам понравилось медали получать. Мешок медалей! Вагон медалей!
— Ну Ардальон, — сказал Писатель Пе. — Ну ты даешь.
— Я у одного поэта прочитал, что в усталой совести вызревает мудрость, — продолжал Ардальон. — Глупость это. В усталой совести вызревает трусость. Само словосочетание «усталая совесть» безнравственно. Совесть, как сердце, уставать не имеет права. Возможна метафора, когда совесть сама говорит: «Я устала быть чистой». Но это, я бы сказал, к современной ситуации и к современной прозе отношения не имеет, это, я бы сказал, из старинной классики.
Ардальон стремительно выскочил из квартиры — Писатель Пе изготовился его бить бидоном.
— Нужно сказать Авроре, чтобы на развод подавала. Выскакивает за кого попало, а ты выслушивай…
Кто-то засмеялся мелко:
— Что, получили, воины? Вот вам и ваша совесть.
— Это Аделаида. Тоже хороша. Я с ней на пляже познакомился, в Пицунде…
— Замри, Аделаида, — сказал Писатель Пе. — Ну что ты знаешь о совести? Совесть — это предощущение Бога, эхо благовеста в нашей душе. А откуда оно у тебя может взяться, у тебя же нет богов, только кумиры. И ты предощущаешь только шмотки…
— А ты что вспенился? — этот вопрос был обращен ко мне. — Ты за бумагой? На бумагу. Бери. Порти ее. — Писатель Пе дал мне тяжелую пачку бумаги, уселся в кресло и укусил себя за колено, он любит так сидеть, оскалившись. — Безлошадники — это не значит безсребреники. Нам кровушки попортили и те и те. Как у тебя с грыжей?
— Нету.
— Ну и радуйся. У других она есть.
Я принес домой печурку из хорошего листового железа — полусталка, который шел на кузова.