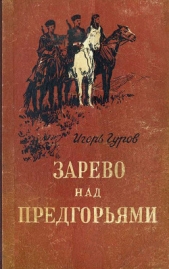Зарево
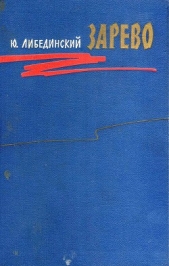
Зарево читать книгу онлайн
Крупный роман советского писателя Юрия Либединского «Зарево» посвящен революционному движению на Кавказе в 1913–1914 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Харун Байрамуков действительно происходил из княжеской фамилии, но похоже, что совсем забыл об этом: занимался всякими торговыми делами, поставлял лес для постройки железной дороги, причем не считал зазорным сам ходить с волами, возившими бревна. Харун продавал и покупал скот, не брезговал скупать зараженный и отбракованный скот. На окраине Краснорецка, в глубоком овраге, на бросовой городской земле построил Харун землянку, начал мыло варить, стал кожу дубить — не пренебрегал заниматься этими для князя постыдными делами. Пока его родичи ездили по пирам, «показывали свое молодечество» в конокрадстве и увозе девушек и сокрушались о несчастном, потерявшем княжеское достоинство Харуне, он тихо богател.
Байрамуков с первых же слов Науруза определил, что перед ним пастух горец, и сразу предложил ему пойти с гуртом до Ростова в качестве младшего пастуха. Науруз сначала было отказался, у них условлено было с Константином, что, побывав к Краснорецке и Веселоречье, он вернется в Тифлис. Но когда Науруз рассказал Василию Загоскину о предложении Байрамукова насчет Ростова, Вася попросил Науруза согласиться с этим предложением. «Иди в Ростов, нам туда все равно посылать надо», — говорил он. Из Ростова шла в Краснорецк линия партийной связи, и по ней до краснорецких большевиков доходила не только петербургская «Правда», но порою даже заграничный «Социал-демократ». Поддерживалась эта связь через почтового служащего Стельмахова и нарушилась вместе с его арестом.
Науруз согласился помочь краснорецким большевикам, он уверен был, что Константин одобрил бы это.
И вот, волоча за собой длинный кнут, перекинутый через плечо, шел он за отарой черных овец, которые медленно двигались с востока на запад по широкой, непривычной для Науруза плоской земле. Осенняя тишина начала уже охватывать степь, хотя в полдень было еще знойно, как в середине лета, и воздух вдали дрожал и струился. Порою высоко в небе слышался еле уловимый печальный свист — то на юг пролетали птицы.
Старшим пастухом при гурте был старик ногаец Азиз-Али. Он ехал верхом, а двое младших пастухов шли пешком. Азиз-Али общался со своими младшими при помощи междометий: то он предостерегающе кричал: «Э-э!» — и указывал нагайкой на отбившихся от стада овец, то, приближаясь к водопою или к месту стоянки, пронзительно свистел. Впалые щеки, острые скулы; сквозь редкие усы и скудную бородку просвечивала желтая кожа. Лицо неподвижно, как степь вокруг. Третьим шел при гурте безродный дурачок, за все время не сказавший ни одного путного слова. Без пояса, слюнявый, брел он за отарой и без всякой необходимости щелкал кнутом.
Небо было громадно, степи беспредельны, путь, по которому Азиз-Али гнал гурт, обходил села и станицы. Только порою окруженный высоким глиняным тыном и похожий на крепость хутор попадался им на пути. Колодезный журавль, поднимая в небо свою тонкую шею, издали возвещал о водопое. Пока овцы пили, псы яростно метались по двору и сотрясали тяжелые грохочущие цепи. Иногда хуторским псам удавалось сорваться с цепи, между ними и овчарками, сопровождавшими гурт, закипала кровавая драка, и тогда пастухи поднимали кнуты…
Наурузу не нужны были собеседники, и он, так же как и оба его сотоварища, шел молча. Он мечтал о Нафисат и беспокоился за нее. Вспоминал о друзьях, раздумывал о Ростове — сумеет ли выполнить поручение Васи Загоскина? И Науруз напевал один и тот же мотив горской пляски — напев этот звучал иногда весело, а иногда печально. Сквозь прозрачные образы своего воображения он ясно видел курчавые волнующиеся спины овец и внимательно следил за их движением. Он не употреблял кнута, но овцы и без кнута слушались его ласкового окрика. Азиз-Али все уважительнее держался с Наурузом. Порою старик с неожиданной улыбкой, делавшей сразу приятным его неподвижное лицо, во время вечерней трапезы подносил Наурузу мозговую кость.
На пятый день пути нагнал их хозяин, казавшийся особенно маленьким и невзрачным на своей большой вороной лошади. Перещупав своими колючими глазами весь гурт, с блеянием протекавший мимо него, он обменялся несколькими словами с Азиз-Али на непонятном Наурузу ногайском языке. После этого хозяин обратился к Наурузу и сказал ему по-веселореченски:
— Старайся, награжу.
В день приезда хозяина резко переломилась погода. Прошел холодный дождь, и хозяин сразу зачихал часто и смешно, как кошка.
— Дождь — это хорошо, — говорил он, чихая, — трава сейчас поднимается, по этой последней траве вы прогоните скот до самого Ростова.
Дождь шел подряд двое суток, и трава за это время действительно поднялась. Но Азиз-Али заболел, стал натужно кашлять, губы его ссохлись, почернели. Теперь после ночлега он, накрывшись своим овчинным полушубком, оставался лежать у костра. Отару угоняли вперед без него, и только к полудню нагонял ее Азиз-Али.
Болезнь отомкнула уста Азиз-Али. На ломаном русском, языке рассказал он Наурузу свою незамысловатую и печальную повесть. В молодости полюбил он девушку, ее отдали за богатого, девушка бежала с Азиз-Али, по дороге их догнали и девушку убили. Сколько таких историй слышал Науруз за свою короткую жизнь, сколько песен об этих бедах со старины сложено! Наурузу даже казалось, будто с ним самим уже случилось что-то похожее. Азиз-Али сослали, всю жизнь прожил он, тоскуя по родине, и лишь года три назад вернулся сюда умирать. Он слабел и покорно сдавался смерти, — так же умирал на глазах Науруза русский старичок Сенечка. Та же обида, та же нужда и такая же безвестная гибель. Науруз пытался лечить ногайца, благо целебные травы росли здесь повсюду. Науруз настаивал полынь, в настой добавлял мяты и полевой горчицы. Азиз-Али слабым голосом благодарил его и уверял, что ему становится лучше. Но каждый раз все с большим трудом садился он на лошадь. И однажды к полудню старик не догнал отары. Что было делать Наурузу? Оставить отару на дурачка подпаска нельзя. Гнать ее дальше, не узнав об участи товарища, он не мог. Оставалось вместе с отарой вернуться на вчерашний ночлег. Но сделать это было не легко: овцы шли и шли вперед по свежей траве и не хотели поворачивать. Дурачок тоже упрямился. Если бы не умные овчарки, Наурузу не повернуть бы отару.
Стреноженная лошадь Азиз-Али пронзительно и грустно заржала при виде отары. Она понурившись стояла у погасшего костра. Азиз-Али лежал здесь же. Руки его были скрещены на груди, лицо спокойно, как всегда. Своим топором Науруз вырыл неглубокую могилу и похоронил старика, положив в изголовье камень.
Азиз-Али безропотно встретил свою смерть. Он был уже стар, и все же в его смерти было что-то такое, с чем никак не мог примириться Науруз. Погиб человек, и, кроме немого камня на могиле, ничего не осталось. А ведь жил, любил, трудился. Это было обидно, несправедливо, и Наурузу вспомнилось все то, что Константин толковал про общую большую несправедливость устройства человеческой жизни. Науруз вздохнул, сел верхом на коня — и снова на запад по осенним степям потекла отара.
Управляться с гуртом стало труднее. Дурачок приходил на ночлег, нажирался и укладывался спать, а Наурузу уснуть было нельзя. Места эти славились разбоями. Науруз научился дремать верхом, покачиваясь на лошади и чутко прислушиваясь к движению отары и к непрестанному щелканью бича, которым развлекался его помощник. Лай собак и монотонное блеяние овец сливались в дремотную мелодию и усыпляли.
Однажды собаки подняли лай сильнее обычного. Науруз открыл глаза и пришпорил коня. Овчарки во весь опор мчались вперед. Науруз увидел человеческую фигуру. Нахлестывая нагайкой коня и крича на собак, гнался Науруз следом за ними. На небольшом бугорке, среди бурьяна, стоял человек. В руке у него был нож. Он стоял, расставив босые почерневшие ноги, спокойно и твердо. Хотя он был очень оборван, Наурузу сразу бросилось в глаза его спокойствие: он стоял, засунув одну руку в карман, а в другой держал нож и без страха, даже презрительно, ждал нападения собак. Его загорелое, с правильными чертами лицо обрамлено было русой бородой, оставлявшей открытыми его впалые щеки. С равнодушным любопытством, словно то, что происходило, его совсем не касалось, следил он за тем, как Науруз укрощает овчарок.