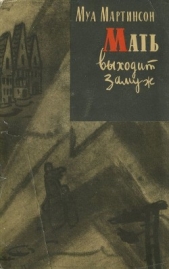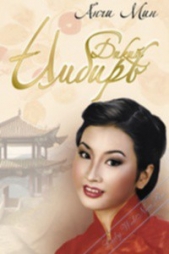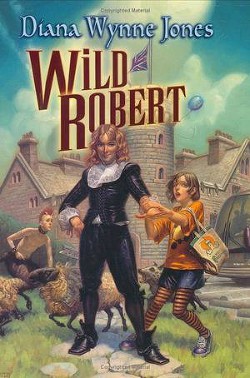Дикий хмель
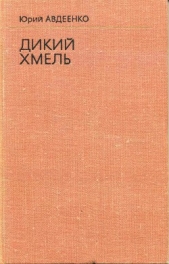
Дикий хмель читать книгу онлайн
Действие нового романа Юрия Авдеенко происходит в наши дни в Москве. В центре повествования — образ молодой работницы обувной фабрики Натальи Мироновой. Автору удалось создать лирическое, отмеченное доброй улыбкой произведение о судьбах молодых рабочих, о взаимоотношениях в трудовом коллективе, о радостях и сложностях в молодой семье
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дальше?
Не знаю.
— Вы готовы, Миронова? — слышу занудный, словно кто-то скребет о стекло, голос.
— Да, — отвечаю, не подумав.
Ладно. Один черт, задачу мне не решить. Собираю листки. Принимаю план ответа: смотреть только ему в глаза. Только в глаза! Ни в коем случае не в записи. Ответы на вопросы я помню наизусть.
Подхожу. Сажусь на стул, не заботясь о своей мини-юбке. Впрочем, из-за стола ему все равно не видно моих ног.
Подвинув к себе экзаменационную книжку, рыженький сморщился и с болезненным, тоскливым отчаянием вдруг посмотрел на меня. Я перехватила его взгляд. И я поняла, что он в моей власти. Может быть, вот так удав понимает кролика.
Я говорила громко, четко, спокойно. И держалась за его глаза, как за ручку трамвая. А он, казалось, окаменел. И нижняя губа у него чуточку отвисла.
Закончив ответы на вопросы, я была вынуждена перевести взгляд на листок с задачей. Но рыженький с мольбой в голосе вдруг попросил:
— Нет-нет... Посмотрите на меня еще немного.
Настала пора для моего удивления. Однако я не подала виду. И смотрела на него, как императрица Екатерина на своего подданного.
Наконец он потер виски руками, облегченно вздохнул, лицо его порозовело, повеселело. Он тихо сказал:
— Спасибо.
Взял шариковую ручку, вывел в моем экзаменационном листе «отлично» и протянул мне.
— Понимаете, — сказал, будто извиняясь, — с двенадцати лет я страдаю хронической мигренью. Никакие терапевтические средства на меня не действуют. Боль снимает только гипноз. Подчинение чужой воле... Я, честно сказать, не уважаю мини-юбку. Считаю ее несколько вульгарной... Но все равно, убедительно прошу вас на всех моих лекциях в институте садиться за первый стол. И смотреть на меня так, как вы смотрели сегодня...
— Если я поступлю в институт.
— Поступите, — сказал он тихо, но твердо.
— До свиданья, — я поспешно взяла листочки, опасаясь, как бы он не вспомнил про задачку. Но он не вспомнил.
Мало того, после моего ответа рыженький не поставил никому ни одной двойки и даже тройки.
Буров напомнил:
— Я же говорил: экзамены — это игра.
С ним трудно не согласиться...
Без всяких приключений я сдала остальные предметы на четверки. И первого сентября была студенткой вечернего технологического института.
Остался в памяти разговор двух работниц, услышанный случайно.
— Не знаю, почему... Каждый год Мироновой дают лишний отпуск на целый месяц.
— Не лишний, а дополнительный.
— За что же ей дополнять? За то, что она жена редактора?
— Она студентка-вечерница.
— В жизнь не поверю, чтоб студенткам на месяц отпуск давали. И еще платили бы за это деньги.
— Ты у Доронина спроси.
— Что он знает! У него память, как решето дырявое.
— Законы он знает.
— Студентка. Вот выучится на инженера. Конвейер бросит. И тю-тю... Надо наоборот. Тех, кто не учится, поощрять. А ученых вообще шибко много стало...
— Ты-то знаешь...
— А что? Легкий хлеб это.
— Не чуди.
«Легкий хлеб»... И будни, будни, будни... Они сложились в три года, как стена из кирпичей. Стена памяти. Молодости. И усилий и тщеславия. Все вместилось в трафарет: электричка, фабрика, трамвай, вечерний институт, опять трамвай, электричка, магазин, кухня...
В институт ездила через день. Тогда кухни не было. Было лишь условное понятие кухни, которое материализуется завтра. Я ужинала в буфете, стоя у высокого пластикового стола. Буров уезжал на Кропоткинскую к своей мамочке. Считалось, в те дни, когда я учусь, он «пишет вещь».
У нас в доме «писать вещь» было негде. Сания по-прежнему ежедневно стирала, сосед Гриша выпивал и включал телевизор на полную мощность.
На Кропоткинской в переулке была хорошая квартира в старом, красивом доме, построенном в самом начале века, когда еще не очень верили в электричество и потолки поднимали высоко, чтобы можно было пользоваться свечами, прихожие делали длиннее, а кухни шире. Квартира состояла из трех комнат: две изолированные, выходящие в просторную полукруглую залу.
Отец Андрея — профессор — умер после войны, насколько я поняла, от старости. Во всяком случае, восьмидесятилетие он отмечал. Юлия Борисовна имела счастье быть его третьей женой и матерью единственного наследника. Профессор служил ихтиологии. После него остались книги, колбы с заспиртованными рыбами и эта квартира на Кропоткинской. Была еще дача в Абрамцеве на берегу реки Вори. Но дачу Юлия Борисовна год назад продала. Объяснила: деревянный дом требует ухода, ремонта. Заниматься же этим некому.
Дед Андрея по отцу тоже был профессором, профессором права. Родословная матери была рангом ниже. Но и ее предки не подметали улицы, не разгружали подводы.
Дед преподавал в гимназии математику. Отец рисовал плакаты.
Мой Буров, с его склонностью рассуждать по всякому мало-мальски стоящему поводу, случалось, заводил разговор об интеллигентности (intelligentis — понимающий, умный). Он говорил, что в наше время благодаря целому комплексу причин — социальных, экономических, политических — интеллигентность хорошо сравнивать с электричеством, которое еще в начале века было доступно лишь избранным, а теперь вошло, по-существу, в каждый дом.
— И совершенно неправы те, кто сравнивает интеллигента с породистой собакой. Дескать, какой прок скрещивать сенбернара с дворняжкой, подразумевая здесь примитивную аналогию.

— А все-таки есть такие, которые сравнивают?
— Есть.
— Проявление спеси?
— Игнорирование процесса развития.
— Спесь, Буров! Спесь!
— Ты упрямая.
— И не интеллигентная.
— Зачем так!
— Констатирую факт. Мать уборщица. Отец слесарь-жестянщик. Да и сама — швея-мотористка. Не звучит, Буров? Ведь не звучит?
— Знаешь, что это у тебя?
— Знаю. Комплекс неполноценности.
— Нет. Чванство. Чванство пролетарским происхождением.
— Бу-у-ров...
— Да, да... И запомни: чванство — всегда плохо. Классовое ли, расовое ли... Плохо!
В этом я успела убедиться давно, в самом начале нашей супружеской жизни. Буров решил познакомить меня со своей мамочкой. Я уже знала, что ее зовут Юлия Борисовна, что работает она вторым режиссером на «Мосфильме».
— Я не думаю, чтобы вы понравились друг другу, — честно сказал Буров. — Но бояться тебе нечего. На киностудии мать прошла хорошую школу жизни и умеет скрывать свои чувства за весьма приветливой улыбкой.
— Считай, что ты меня успокоил, — невесело ответила я. С облегчением предложила: — Может, не поедем?
— Она очень одинокая женщина. И не очень счастливая. У нее застарелая и теперь уже, кажется, несбыточная мечта получить самостоятельную постановку фильма.
— Это трудно?
— Получить первую постановку — это все равно что выиграть машину по лотерейному билету
— Если купить тысячу билетов?
— Попробуй.
Юлия Борисовна оказалась хорошо сохранившейся женщиной. Высокой, не оплывшей, а даже стройной. Косметика на ее лице была положена не только в меру, но еще и с большим искусством. Юлия Борисовна стояла возле кофеварки на кухне, словно вписанная в интерьер в своем розово-бежевом хорошем костюме. Любезно, но несколько жеманно, она воскликнула:
— Как мило, что вы приехали! У меня чудесный бразильский кофе. — И тут же без всякого перехода спросила: — Вы читали, что сказал Антуан де Сент-Экзюпери об истине и здравом смысле?
Она произносила слова очень быстро. Привычка? Или недостаток речи?
— Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой, апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело — объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно.