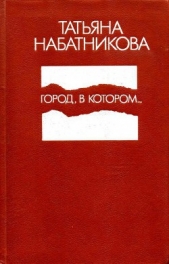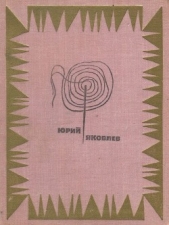Взрыв
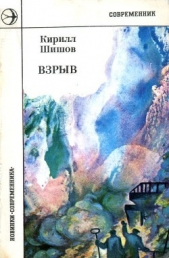
Взрыв читать книгу онлайн
Герои произведений молодого челябинского прозаика Кирилла Шишова — инженеры, ученые, архитекторы, журналисты. Жизнь ставит перед ними сложные задачи, решение которых требует смелости и нравственной чистоты.
Рассказы вводят нас в среду специалистов промышленности и строительства. Автор убедительно показывает, что только цельные, страстные люди способны созидать подлинно новое, закладывать фундамент будущего.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он понимал, что, как всякая работа, труд металлургов — это жестокая схватка с непослушным материалом. С детства сталь представлялась ему то ножом, врезающимся в робкое податливое тело дерева, то плугом, взрывающим песчаные иссохшие комья его родной владимирской земли, то танком, ударяющим грудью по паучьей свастике жалкой немецкой пушчонки. Но только сейчас он столкнулся с тем, как сама сталь, прежде чем стать пригодной плотью, формует каких-то особых людей, ее изготавливающих. Словно какая-то корка — угрюмая, неподатливая — лежала на их лицах. Неуклюжие робы топорщились, скрывая сильные мышцы. Неторопливые короткие фразы, которыми они обменивались, ничего не говорили ему. Бегичев мучился, меняя технику рисунка, и фигуры получались у него то жестко-скульптурные, словно из застывшей лавы, продавливающие землю под собой, то несуразно-бестелесные, расплывчатые, почти сливающиеся с мраком цеха и оттого таинственно-пугающие. Конечно, он мог бы начать писать портреты, как обычно, в красном уголке любого цеха, и вызванные стали бы добросовестно отсиживать в напряженных позах полчаса, но эта нелепая шальная мысль о пятом портрете — портрете для себя — выбила его из колеи привычного. Он решил хоть раз в жизни написать портрет так, как работал над пейзажами и натюрмортами, отдаваясь весь и до конца, пытаясь выявить невидимое обычному глазу.
Но, работая над пейзажами, он писал страдание умирающего дерева, или одинокую тоску бесплодного жестокого камня, или трепетную силу проросшей на пепелище травы, а здесь — здесь он не мог ухватить состояния этих людей, для которого нашлись бы потом и краски, и цвета, и тени…
На десятый день он забросил свой альбом под кровать, отбил на почте телеграмму с просьбой найти замену и, зло покуривая, отправился бродить по городишку, которого, по сути, не видел да и не хотел видеть. За заводским поселком из типовых пятиэтажек открылся старый город — деревянный, усадебный, залезающий в гору с лихостью грузинских сакль. Деревьев, естественно, там почти не было: предки об охране природы не думали, но вверху, на макушке соседней выпуклости он приметил жалкий лесок, куда и понесли его непроизвольно ноги. Он шел и думал, что даже этот обветшалый конец города, с почерневшими деревянными крышами, пьяно-разваленными воротами и бродячими псами для него понятнее хаоса и визга железа, в котором он пробыл. Он мог бы, побившись с пару дней, написать и эту старуху на фоне резного наличника, вырастившую какого-нибудь пропойцу-сына и жадюгу-дочь, а ныне не желающую нянчиться с внуками и прикармливающую из блюдечка блудливую кошку. Он мог бы написать и печально читающего на завалинке газету старика, шевелящего губами над передовицей и думающего о том, приедет ли сын на покос или опять мучиться одному в семьдесят лет на жарище. Он понимал этих людей, потому что все русское искусство незаметно вложило в него свой опыт. Но у него не было приемов для изображения людей, ежедневно прокаливаемых горячим дыханием стали и ловящих по вечерам чебачишек в заводском пруду. Он был бессилен перед скуластым парнем, залезающим в трехсотградусную печь для ремонта подины. Он грустно думал, что если круговорот живого — от робкого одуванчика до цветущей яблони — ему подвластен и уловим, то поединок потного, раскаленного печью мужчины с огненной стальной полосой вызывает у него лишь штампованные приемы, не согретые болью души или сочувствием.
Он шел по крутой каменистой тропе, привычно учащая дыхание, и уже различал впереди красные звездочки среди негустых березок, серебристые оградки. Да, это было кладбище — старый и вечно обновляемый погост, ради которого сохранялись от порубки деревья и пели беззаботные пичуги, сияло солнце и гудел внизу напряженным зыком завод. Тишина смирения и безысходности обступила его, и он медленно проходил среди могил, вглядываясь в поблекшие от дождей фотографии, удивляясь весу стальных пирамид, словно вдавленных в желтоватую иссохшую землю. Видно, делали их на том же заводике по типовым размерам из листового проката, что катали скоростные прокатные станы. Напряженные застывшие лица, молодые, пожилые, с той же замкнутостью смотрели на него, не соединяя цепь времен, не повествуя ни о чем, кроме двух цифр, соединенных коротенькой чертой, чертой, за которой вся жизнь — неизвестная, загадочная…
Вдруг за поворотом он увидел, что возле очередной пирамидки склонился с лейкой над цветами мужчина, фигура которого показалась странно знакомой. Бегичев остановился, но сухая ветка хрустнула под подошвой — и человек оглянулся. Это был директор завода — в том же неопределенного цвета пиджаке с засаленным от носки галстуком и испачканными землей руками.
— Это вы? — не удивляясь, сказал директор, словно они встретились в проходной завода или на перекрестке. — Будьте любезны, помогите поднять оградку…
Бегичев, пробормотав невразумительное приветствие, отчего у него перехватило горло, бестолково ухватился за железные прутья и невпопад принялся помогать директору — Алексею Никитовичу, — как, к счастью, пришло на ум растерянному художнику. Он долго не решался взглянуть в сторону памятника, роясь в неподатливой просевшей почве, пытаясь совком отрыть мешающие камни. Алексей Никитович рыл землю саперной лопаткой, вытащенной из брезентовой сумки, тяжело всхрапывая при взмахе и аккуратно складывая грунт возле дорожки. Лейка, горшки для рассады цветов и початая бутылка водки стояли рядом…
Когда они закончили и сварная решетка была плотно посажена в проушины поднятых столбиков, Бегичев украдкой рассмотрел фотографию молодого человека с бледным сухощавым лицом. Это был сын директора — двадцативосьмилетний Николай Алексеевич Примаков, похороненный два года назад. Горькая надпись так потрясла Бегичева, что он на секунду потерял сознание и бессильно облокотился на решетку, чуть не упав. Директор молча закурил, и запах табака привел в себя художника, судорожно унявшего дрожь пальцев и нашедшего силы достать помятую пачку сигарет. Они сели на траву. Директор так же молча пододвинул ему бутылку и подал спички…
— Сын, — после долгой паузы хриплым голосом сказал Примаков, когда, откашлявшись после водки, Бегичев затянулся дымом. — Опередил отца… До сих пор не могу поверить…
Бегичев ковырял носком ботинка мясистый куст подорожника, выросший возле оградки, и не мог произнести ни слова. Собственный отец — семидесятилетний крестьянин с корявыми руками пахаря и ложкаря — стоял перед ним, устало поникнув взглядом.
Его портрет, сделанный еще в годы учебы в академии, остался единственной удачной работой, заслужившей золотую медаль и скупое рукопожатие учителя. Всю боль военного голодного времени, страх детского одиночества в долгие зимние ночи тридцатых годов, когда отец месяцами уезжал на хутора, молчаливое поклонение деревни перед человеком, носившим на теле семь шрамов от вил и пуль кулаков, — все это он вложил в портрет. И сам он — Бегичев — рубил из владимирского сидерита надгробие с морщинистым профилем отца, пережившего четыре войны. «Мужик волен помирать, когда дети за плуг возьмутся», — вспомнилась ему отцовская присказка, которую тот твердил в горячечном бреду, распластанный на постели после очередного налета из-за угла. «Не волен я теперя помирать, мне жить надо…» И эту бешеную волю поджарого жилистого тела рисовал он тогда так, чтобы каждый шрам чувствовался под обтянутой холщовой рубахой, а глаза — глаза не решился нарисовать: тень от спутанных волос падала старику на лоб, и глубоко посаженные зрачки светились во впадинах. Скулы с обветренной кожей и сжатыми желваками позволяли домыслить образ, названный им «Батя»…
— На заводе погиб, — словно с собой разговаривая, сказал Примаков. — Не должно быть такого, чтобы отцы детей переживали… Несправедливо…
Бегичев смотрел, как директор с усилием цедил оставшуюся водку из горлышка и обтянутый небритый кадык со свистом вздрагивал, словно от сдержанного рыданья, но слез на щеках не было.
— Как же случилось? — шепотом спросил он.