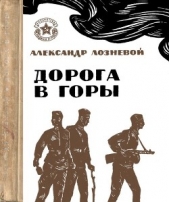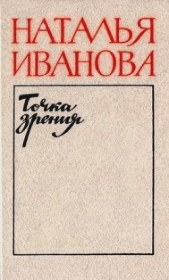Дорога через горы
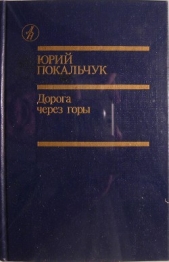
Дорога через горы читать книгу онлайн
В сборник украинского писателя Ю.Покальчука вошли разные по тематике произведения. У главного героя романа "И сейчас, и всегда" сложный жизненный путь - коммунист-подпольщик в панской Польше, боец-интербригадовец в фашистской Испании, участник Сопротивления во Франции. После разгрома фашистской Германии Андрий Школа возвращается на родную Волынь и работает председателем колхоза. Повести и рассказы - о современной молодежи, о подростках и детях, прошедших трудный путь становления. В книгу также входит цикл "Никарагуанские рассказы".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я стоял и смотрел, и все больше осознавал, что нет для меня теперь человека роднее Пако, что это единственное, пережившее мою любовь, я буду беречь, пока жив, что в нем еще сохранился смысл моей жизни, сохранился тот блеск, та земная красота, которую отняла у меня фашистская бомба, когда уничтожила половину домика на улице Сан-Матео в Мадриде вместе с доньей Хуанитой и двумя ее детьми, пятилетним Мигелем и моей женой Марией-Терезой... Пако как раз подходил к дому, его ранило и отшвырнуло в сторону. Когда он пришел в себя, то увидел на месте бывшего жилища огромную яму, и все... Бомбардировка Мадрида была тогда особенно ожесточенной. А здесь ветхий домишко... Одна бомба — и все, жизнь моя искалечена...
Рядом живет семья жены Збышека Янишевского — Изабель. Там никого не было дома, мать Изабель прибежала и увидела Пако в крови, почти без сознания... Оказалось, все погибли... Представьте себе, что он пережил, он так любил своих, особенно сестру. Это была такая семья, товарищ комиссар, простые добрые люди, они так любили друг друга! И меня, и я их...
Вот так стоял я тогда и только хотел было окликнуть его, как взгляд Пако скользнул от потолка к проходу и он увидел меня, узнал, и в палате раздался такой страшный крик — Андрес!!! — его, наверное, слышал весь госпиталь... Пако сорвался с постели, чтобы броситься ко мне, боль исказила его лицо, но он едва ли ее чувствовал — таким сильным и страшным был его порыв... А вы говорите о родственниках.
А что такое родственники, скажите на милость? Дома у меня неизвестно что. Я вам правду скажу, стыдно, но признаюсь, не скучаю так по ним... Я вам скажу, у меня с родителями близость, какая редко бывает в жизни, вот, может, потому и не тоскую так, что уверен в них. Молодые еще — около пятидесяти... да, молоды, еще и сестренка... А главное, они меня понимают, они бы разделили со мной все, что я переживаю здесь, да, абсолютно убежден. А я нужен здесь, этим людям, я сейчас испанец и не думаю и не хочу думать о возвращении. Я на войне, и война эта — мое кровное, личное дело, да, да, как идея, которой я служу! Принадлежность к партии — тоже мой личный вопрос, служить ей можно по-разному, убеждения — не билет, а душа человека...
Испания для меня — это смерть моих близких, моих товарищей. Смерть... За эти два года я на нее насмотрелся, ох насмотрелся... Но сейчас, в эту минуту Испания — подросток, за судьбу которого я отвечаю перед памятью его семьи... Понимаете, я отвечаю, я, взрослый человек. Сказать «отвечаю» — сказать все. Нет, это они в шутку прозвали меня Омбре еще в первый месяц в Испании. Я с детства знал французский, родители обучили. Ну и испанский мне дался легко, я его за три месяца освоил. И сначала немного злоупотреблял в разговоре словом «омбре» [17], как обращением... У нас обращаются «хлопче» или «человече»; кто-то из испанцев, шутя, бросил мне «омбре», а наши подхватили, ну и пошло... А сейчас уже и забыли, откуда пошло. Теперь я стараюсь оправдать это слово, товарищ комиссар, не знаю, как получится, но стараюсь…
Пако не отпустил меня до вечера. Я просто сидел возле него, а он держал меня за руку и спал... Не мог я уйти, он не то чтобы просил меня не уходить, он просто смотрел так, что я не мог уйти... Под вечер я сказал, что если останусь жив, то приду за ним, заберу к себе. Сначала он не верил, но я сказал: слово мужчины. И он поверил. Это Испания — такое слово здесь равнозначно жизни... Да, я сказал и вчера пришел за ним. Он почти не хромает, докторша сказала, что и это скоро пройдет, просто долго лежал и отвык ходить, они бы не держали его так долго в госпитале, но ему некуда было идти...
И вот я за ним пришел. Он не кричал на этот раз, когда увидел меня, я бывал у него, ну, не так часто — трижды за два месяца. Такое сейчас время... А тут две недели не мог вырваться, когда началась вся эта катавасия с анархистами. Он уже подумал — я погиб, и, когда увидел меня, это был восторг человека, который снова хочет жить! Я вернул его к жизни и не могу потерять. Он мужчина... Я говорил ему, что могу погибнуть в любой день, я тоже могу биться с фашистами, ответил он, мне скоро пятнадцать. Он вырос и в самом деле на что-то способен... Думаю, его стоит оставить... Спасибо, что согласились, сейчас увидите, позову его...
XII
Время. Его сокращают межпланетные полеты, быстрый кругооборот жизни сжимает его, и оно мчится все стремительнее, незаметно ложась своим грузом на наши плечи, чем дальше, тем больше, чем дальше, тем тяжелее... Что дальше? Почти все уже позади. Однажды, когда-то очень давно, началось то, что называют жизнью. Увлеченность, жажда познания людей, вера в будущее... вера, жажда, время... Что осталось? Жизнью стала работа…
С тех пор как умер диктатор Франко, вернулась в Испанию Долорес Ибаррури, вернулись тысячи и тысячи эмигрантов, стало спадать напряжение сорокалетней испанской трагедии. И вместе с облегчением, с энтузиазмом, который испытывали мы с Пако, читая каждое новое сообщение о событиях в Испании, пришло что-то очень похожее на опустошенность. Вот оно — только теперь закончился первый акт кровавой трагедии. А нам уже по шестьдесят, мы уже за бортом...
Пако поехал снова. В Испании он был с послевоенной поры уже трижды. Нашлись какие-то дальние родственники, поехал. На этот раз вместе с сыном. И уж его Андрий казался счастливее всех на свете.
А я, признаться, не знал, хочу ли снова увидеть Мадрид. Думал, нет, тяжело все переживать и чувствовать заново. Долгие годы об этом вообще не могло быть речи, а теперь... Теперь, когда Пако с Андрием стояли на перроне, мне вдруг страшно захотелось поехать тоже. Даже сердце заболело, увы, старикам не положено волноваться. Андрий, мой племянник, стоял рядом с Пако, и я понял, это же я, это я еду туда, в Мадрид, назад, в прошлое...
— Положите цветы там... — мне было трудно говорить. Перехватило горло, не находилось слов.
Пако понял. Он смотрел на меня так, что сквозь его пятьдесят шесть пробивался ко мне взгляд того Пако, моего Пако, того подростка, которого я давно уже не видел в этом седом директоре школы.
Ольга стояла рядом. Она понимала все. И это тоже было тяжело. Но сейчас отсчитывалось не ее время — только наше, мое и Пако, только ее, Марии-Терезы, только того, кто никогда, никогда, никогда... А еще время этого славного парня, Андрия Кинтаны, сына Пако и моей сестры Ганнуси, его, потому что он шел в Испанию моим посланцем, нес единство наших семей, так тесно сплетенных судьбой, соединенных вопреки всему...
— На Сан-Матео... — сказал я. Я заставил себя говорить. Если бы не говорил, было бы еще труднее. Стариковские нервы. Сантименты. Мы за это умирали. За эти сантименты. — И если попадете в Барселону, Пако, там, в том парке...
— Я поведу его в госпиталь, — сказал он. — Туда, где был госпиталь, где ты меня нашел. Сейчас там школа. Я поведу его в ту палату, где я лежал, где думал, что жизнь кончилась... Где мы начинали заново, брат...
Слезы текли по его щекам. Наконец пожилая проводница отважилась подойти к нам. Время отхода поезда.
— Мы поедем в Мадриде еще туда, где жила наша группа, куда я пришел к тебе из госпиталя, помнишь, Омбре... и Лерида, где мы дрались с марокканцами...
Давно мы не вспоминали всего этого. Вот так, как сейчас, когда все болело, когда каждое слово открывало давно зажившую, забытую рану, когда прошлое взрывалось в нас, чтобы войти в день нынешний, чтобы ожить снова, чтобы умереть только с нами.
Слова Пако потонули в гуле поезда, понемногу набиравшего скорость. Я машинально сделал несколько шагов вслед вагону, потом остановился, только поднял руку. Это то же самое, что пытаться догнать прошлое, несколько шагов ничего не решат, не стоит. Поезд отдалялся, уже не видно было голов в окне вагона, и я только тогда заметил, что держу руку, сжатой в кулак, что держу ее так, как сорок лет назад в рядах республиканской армии, когда «Но пасаран!» стало нашей сутью, а «Рот фронт!» — жизненным девизом.