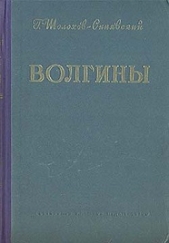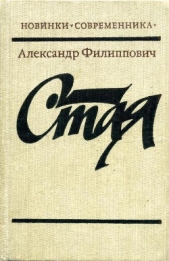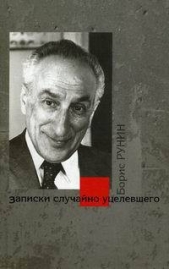Горький мед

Горький мед читать книгу онлайн
В повести Г. Ф. Шолохов-Синявский описывает те дни, когда на Дону вспыхнули зарницы революции. Февраль 1917 г. Задавленные нуждой, бесправные батраки, обнищавшие казаки имеете с рабочим классом поднимаются на борьбу за правду, за новую светлую жизнь. Автор показывает нарастание революционного порыва среди рабочих, железнодорожников, всю сложность борьбы в хуторах и станицах, расслоение казачества, сословную рознь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Последние слова телеграфиста окончательно разозлили начальника разъезда.
— Что это значит?! — крикнул Зеленицын. — И вы туда же, Клименко! А я не убежден, что монархия пала окончательно. Да-с, не убежден! Завтра может быть другой император… Да-с! И вы и все мы можем остаться в дураках. Этот шум и солдатские лозунги еще ничего не значат. И пока я не получу из управления дороги циркуляра — я ничего у себя на разъезде менять не буду. Наше дело служить, выполнять инструкции и правила технической эксплуатации. Разве после отречения государя что-нибудь в нашей службе должно измениться? Ничего! Ровным счетом!
— Казала баба, що чула, да не повирила, що бачила, — вмешался вдруг сидевший в уголке стрелочник. — Люди гомонят, що царя нема и не буде, а вы, господин начальник, про якийся циркуляр. Люди — я сам бачив — христосуются, як на пасху, а вы про инструкцию. Бачилы эшелон? Вот это и есть новая инструкция, тот ваш циркуляр. Низко кланялся вам царь Микола…
Зеленицын вспылил, гаркнул во весь голос:
— А ты еще здесь? Марш отсюда сейчас же на стрелочный пост!
Стрелочник неторопливо встал, взял в руки фонарь, тихо вымолвил:
— А вы не здорово кричите зараз! Годи орать. И кулаками в морду тыкать. Старое кончилось, теперь новые порядки будут. Чулы — революция?
— Вон! — сдавленно крикнул Зеленицын.
Стрелочник пожал плечами, не спеша вышел из дежурной комнаты.
Телеграфист осуждающе покачал головой:
— Ай-яй-яй, Тихон Алексеевич, Тихон Алексеевич… Как не стыдно.
Я все еще стоял у двери и ждал, что Зеленицын вгорячах и меня заодно вытурит, и быстренько подсунул телеграфисту книжку телеграмм. Не глядя в нее, Клименко черкнул карандашом свою фамилию, вырвал бланки, оставив копии, кинул телеграммы на аппарат, обращаясь ко мне, подмигнул:
— Пока получим инструкции, хлопчик, кому передавать телеграммы?
И я неожиданно для себя дерзко брякнул:
— Распутину на тот свет!
— Ого!
Клименко и сторож захохотали:
— Вот это здорово! Правильно, молодой человек. Будем отстукивать теперь на тот свет. Так и передавай Друзилину.
Не засмеялся, даже не улыбнулся один Зеленицын. Он мрачно смотрел в окно.
Я вышел на перрон. Мартовское, словно обновленное, солнце било прямо в глаза. На душе было легко и радостно.
Артель я нашел тут же за семафором. Рабочие, побросав инструмент, расселись по откосу на солнышке, курили, на все лады раскладывая и перетряхивая новости. Сам артельный староста Андрей Шрамко сидел на дощатой платформе Сброшенного на линейку вагончика, читал рабочим какой-то серый листок.
Завидев меня, навстречу кинулся Юрко. Молодое, круглое, всегда приветливое лицо его с темными усиками над пухлой губой сияло.
— Юрко! Революция! — крикнул я издали.
— Знаем уже. Вот прокламацию с эшелона кинули. Садись и слухай, что в ней пишут…
…Артель не работала до вечера. Руки не тянулись к инструменту. В возбужденных разговорах, в частых перекурах и перечитывании листовки пробежало время.
После работы я решил не оставаться в казарме, а тотчас же ушел домой.
В сумерках брел через черные, по-весеннему настороженные, пахнущие набухшими ивовыми почками сады, перебирался вброд через вздувшиеся ерики, рискуя провалиться сквозь ноздреватый, ненадежный лед, зачерпывал несколько раз сапогами воды. Но я шел безбоязненно, не отдыхая — мне было жарко и весело.
В камышовых зарослях пахло горьковато-затхлой болотной прелью, а в садах — невидимыми на проталинах подснежниками. На пригорках, там, где не было снега, под ногами уже чувствовалась упругая, потеплевшая за день, готовая наутро зазеленеть первой изумрудной травой, земля.
И всюду в балках и канавах бормотали ручьи. Не могу сказать, почему так ликовала моя душа в тот весенний синий вечер: в нагрянувшем на Россию событии я разбирался плохо, и все-таки оно сливалось с острым ощущением весны, расцветающей вместе с ней молодости и какого-то небывалого, распиравшего грудь прилива сил.
То и дело я принимался выкрикивать строчки из горьковского «Буревестника», петь песни — отнюдь не революционные, а обыкновенные, хуторские: революционных песен я еще не знал. Я, наверное, был похож на пьяного, и когда вошел в темный, кое-где мерцающий редкими огоньками хутор, то взбунтовал всех собак. Они встретили меня недружелюбным лаем.
Отца и мать я застал в чрезвычайном волнении. Только сестренки с беспечным видом играли в неуютной, как сарай, передней кахановского куреня.
Отец шагал по хате и, размахивая покалеченной левой рукой, говорил:
— Завтра же еду к брату Игнату в город. Он, должно, все знает и как быть посоветует.
— Никуда ты не поедешь! — сердито кричала мать. — Знаю я тебя: ввяжешься там во что-нибудь, наживешь беду. Сиди дома и не рыпайся… Да перестаньте вы, оголтелые, чтоб вам лопнуть! — цыкнула она на девочек и надавала им шлепков.
Сестренки забились в угол, присмирели, поглядывая оттуда шаловливо-испуганными глазенками.
Выслушав «мой» рассказ, отец задумался.
— Теперь каждый день жди чего-нибудь нового. Царя не стало, может, земли дадут — уравняют с казаками, — медленно проговорил он. — Говорил же Коршунов — помнишь? — как только не станет царя, землю начнут делить всем поровну. А может, в Расею надо ворочаться — там наша земля и там хозяйство нужно заводить…
Отец уехал в город, к дяде Игнату, на рассвете, потихоньку, как бы таясь от матери и не желая волновать ее лишними разговорами.
Льдины сталкиваются
Утром я не поехал на работу. В те дни многие люди бродили без дела, как в праздник, проводя время в разговорах, в ожидании новых событий.
Я пошел к Каханову. Он собирался уходить куда-то, стоял, одетый в свою семинарскую потертую шинель. Я начал рассказывать ему про вчерашние новости, но он отмахнулся, как мне показалось, с раздражением:
— Знаю. Все знаю. Вон — гляди! — кивнул он на разбросанные на полу смятые газеты. — Вчера из-за этого хлама ходил на почту.
— Радостно, правда, что царя наконец спихнули?.. — наивно сказал я.
Каханов окинул меня сожалеющим взглядом:
— Ты думаешь, это уже все? Сразу наступит для тебя рай? Монархии нет, но есть партии… Между ними завяжется теперь такая катавасия, не на жизнь, а на смерть. Ты прочитай, сколько объявилось партий… Эсеры, кадеты, трудовики, большевики… И каждая партия тянет на свое. А я не желаю быть ни в какой партии. Я хочу работать, заниматься живописью, играть на скрипке, писать стихи… Вот иду сейчас поступать на работу… К твоему сведению: меня приняли конторщиком в каменный карьер.
Я, как всегда, когда Каханов переходил на учительский тон или свысока делал мне замечания, не знал, как возразить ему.
— Читал у Шеллера-Михайлова про французскую революцию? — тоном строгого ментора спросил он.
— Нет еще. Не успел, — краснея, сознался я.
— Вот видишь! А лезешь туда же…
Сколько раз я слушал такие бесцеремонные упреки! Но сейчас слово «лезешь» меня возмутило, я вспылил:
— Никуда я не лезу, а только думаю: царя не стало — теперь будет другая жизнь.
— Какая? — сощурился Каханов. — Шоколаду и пряников тебе дадут? Рано еще думать о другой жизни… Ну, я пошел… Начинать служебную карьеру… в карьере… — Он скорчил злую гримасу.
За калиткой Каханов насмешливо кивнул мне, помахал рукой.
«Казак… Ему, наверное, обидно, что царя спихнули. Вот он и злится», — подумал я. После оказалось, что я был немножко прав: монархический дух Новочеркасской семинарии еще не выветрился из него.
События тем временем разворачивались, хутор бурлил. За получением новостей все в первую очередь шли в бакалейную лавочку Расторгуева, как в клуб. Там читались последние известия, обсуждались сообщения о создании Временного правительства.
Не из хуторского правления, не от атамана или из других официальных источников, а из лавочки Расторгуева да с почты растекались слухи о том, что у власти вместо царя встали богатые люди — князья, графы, помещики и капиталисты. Лавочники и хуторские воротилы, напуганные вначале пущенными кем-то слухами, что их будут грабить и резать, приободрились.