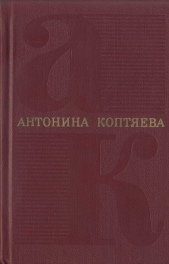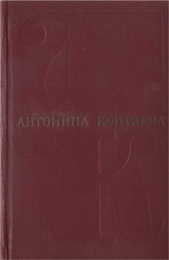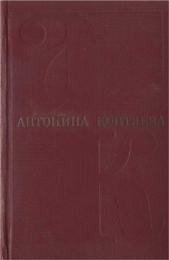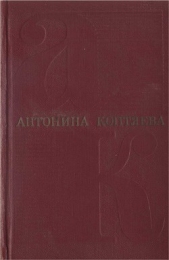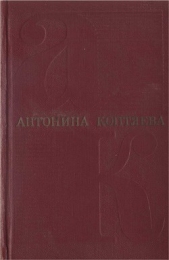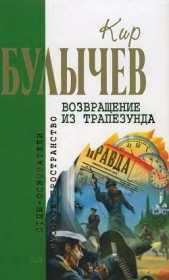Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк
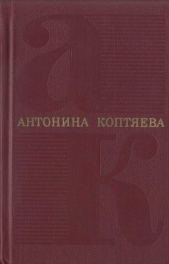
Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк читать книгу онлайн
Шестой, заключительный том Собрания сочинений А. Коптяевой включает роман «На Урале-реке», посвященный становлению Советской власти в Оренбуржье и борьбе с атаманом Дутовым, а также очерк «По следам Ермака» о тружениках Тюменского края.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Дедушка! — Фрося бросила быстрый взгляд на проем двери, где то и дело мелькала мать, гнувшаяся под низким пока потолком (Пашка вместе с Гераськой убежали разведать о поденных работах к болгарам-огородникам, что снимали в аренду пригородные земли в поймах возле устья Сакмары). — А ты дружил с кем-нибудь… из казаков?
— Дружить не дружил, а смолоду знался с одним из Бердинской станицы… В лазарете его выхаживал. Раненый он был не шибко тяжело и вскорости опять в полк уехал. Легкий характером человек — долго я его вспоминал. А в войске он артиллеристом служил.
Фрося ходила в Берды с подружками. Это всего верстах в шести-семи от Нахаловки вверх по берегу Сакмары. Там, говорят, была столица Емельяна Пугачева. И хотя казнили этого казака в Москве лютой казнью, но бердинцы вроде гордились тем, что станица их прославилась такой историей и с оглядкой, а все же охотно показывали место, где стояла дворцовая изба.
— Он и сейчас живет в Бердах, твой знакомый казак?
— Не-е, в японскую его убили где-то в Порт-Артуре.
— А почему ты долго о нем вспоминал?
— Я же говорю: веселый был. Тогда еще казаки летом белые рубахи носили. Они же форсуны первеющие! Ну, понятно, на службе ихней только и дела при полном замирении: то себя чистит, то коня скребет. И чтобы на рубахе пятнышка не было. Едут, бывалоча, с пиками, кони блеском играют, сами в рубашках белых, как лебеди, с-под фуражек кудрявые «виски» на отлете. Да все с песней, со свистом да гиком — бравые ребята, ничего не скажешь!
Дед Арефий тяжело вздохнул и умолк.
— Говори еще! — Фрося совсем забыла о самоваре, похожем теперь на пузатого бухарца, лежавшего на боку в грязно-полосатом халате. — Правда, что, когда казаки в поход собираются, по всем станицам набат враз ударяет и слышно его от Уральских гор до моря Каспия?
— Правда, — уже неохотно подтвердил Арефий. — Чего они тебе дались, эти казаки? И думать-то о них — изжога одна! А походы?.. Вот мой знакомец из Бердов рассказывал нам однова, как еще в старину отличились бердинские казаки… В старые времена они, когда с походу домой являлись, по станице гнали наметом, из ружей палили, в джигитовке удаль показывали. Теперь за это вроде за фулиганство в околоток забрали бы… Ныне казаки свою удаль по-другому показывают: безоружных людей лошадьми топчут, баб да ребятишек нагайками урезают…
— А раньше? Что он тебе рассказывал?
— Раньше казаки с врагами внешними сражались… И вот ехали с боевого походу бердинские… Вел их атаман еще молодой — горячая голова. Шибко гнал. К любушке, видно, торопился и замотал конников совсем. С нашей Маячной горы уже повестили станишников, что казаки на подходе. Девки с подарками на бугры высыпали. А казаки к станице подъезжают, нахохлились в седлах, ровно куры на насестах. Атаман глянул на них и охнул: позор войску! Видит, у дороги поля Богодухова монастыря… Подсолнухи — корзинки спелые… Вздыбил коня, шашку вон: «Сотня, на противника в атаку лавой!» И первый заполосозал шашкой. Полетели головы подсолнушков: казаки ожили, развернулись.
А пушкари стоят на дороге. Завидно им. Теперь только и разговору будет о казачьей рубке.
Командир батареи, не будь плох, тоже скомандовал:
«Пушки к бою! По наступающему противнику огонь!»
Девок с бугров будто ветром сдуло. А пушкари разошлись вовсю:
«Огонь!»
Да промазали в небо — угодили в церкву. Она вспыхнула — и дотла сгорела.
Протоиерей нашенский донес письмом епископу в Казань, а владыка, осердясь, начертал: «В Бердах церкву вместо сгоревшей строить запрещаю. Войска Оренбургского казакам Бердской слободы на моление ходить (ходить, а не ездить, анафемы!) в Форштадт. Вечно». Ладно, не проклял, а мог бы анафеме предать.
— Неужто это правда, дедушка?
— Так я ж тебе быль пересказываю. Видишь, какие они — казаки-то! Ради гонора отца-матери не пожалеют.
— Ты их все-таки не любишь?
— А пошто я их должен любить? У меня до сей поры их отметины чувствуются. Вот они, рубцы-то! — Дед Арефий пошарил сквозь рубашку на тощих ребрах и пониже спины. — Ровно у волка травленого. Ты меня еще спроси, как киргизцы за волками с камчой охотятся… Плеть это тяжелая со свинчаткой, — пояснил Арефий и, помаргивая сморщенными веками, пытливо посмотрел на присмиревшую Фросю.
Росли в здешних садах только желтые акации с невзрачными цветами на колючих ветках, а в городе, уже уставшем от военных поборов, мобилизаций, недостатка продуктов, пели, как и по всей России, романс «Белой акации гроздья душистые». Это было словно поветрие. В ресторанах гремели цыганские песни и пляски, и цыганки из таборов, обложивших город шатрами, будто вражеская орда, подметали пыльные улицы широкими юбками.
Задыхаясь от среднеазиатской жары, Оренбург справлял пир во время чумы, потрясаемый пьяными скандалами, грабежами, убийствами, бешеными разгулами купцов и военных.
— Перед пропастью бесятся, — говорили рабочие.
Нахаловка жила суровой трудовой жизнью. Наследовы всей семьей дружно углубляли, утепляли и охорашивали свою землянку: закончили городьбу, срубили сенцы из тонкого леса. Уже по-настоящему скрипела дверь, умазан гладко глиной земляной пол, и окна превратились в глубокие бойницы, когда были сложены стены из саманных кирпичей. И грядки для лука да моркови сделаны во дворе, и сарайчик появился для дров и кизяка, а Наследиха, теперь владелица всех этих чудес, не спешила поставить обещанную свечку в соборе перед образом божьей матери.
— Гляди, рассердится богородица, — сказала ей Фрося, когда мать, умаявшись, снова не пошла ко всенощной в субботу.
А девушка принарядилась, причесалась, даже напудрила умытое личико и вот металась в тоске. Нестор-то ждет, ищет ее, наверное, и вся площадь перед собором, широкая, с аллейками сирени, с тополевыми шатрами на поворотах дорожек, шумит народом. Идут, конечно, барышни в длинных, светлых платьях, отделанных кружевами и лентами. Барыни волочат по ступеням паперти тяжелые подолы, придерживая их и показывая красивую обувь.
Глядя на свои дешевенькие, на низком каблуке баретки, Фрося вспомнила, сколько радости доставила ей эта обновка. О модах в Нахаловке разговору мало. Но когда Фросе было лет десять, бегала она в праздник с подружками к мельницам у вокзала, чтобы получить по копейке — дар богатого мельника. И еще тогда заметили девчонки на Ташкентской улице два дома с широкими парадными, на ступенях и перилах которых сидели нарядные барышни. Какие яркие платья, какие туфельки с бантами, со шнурками и блестящими пряжками! И на соседней Пиликинской улице в некоторых домах праздно сидели у окошек стайки пестро одетых девушек.
— Что они там делают? — спросила дома Фрося у матери.
— В заведении. На службе, — неясно отговорилась мать.
Приглядываясь в другой раз с жадным детским любопытством к вычурно одетым, намалеванным красоткам, Фрося решила:
«Когда подрасту, тоже пойду сюда работать».
Теперь-то она все поняла и боялась даже подумать о поганой той жизни. Вместе с матерью нанималась на поденные работы, жила на заработок отца и братьев. Пока… А что потом? Один выход для честной хорошенькой девушки — замужество. Но ведь не ради куска хлеба! Вот Нестор сватать хочет… Отчего же при одной мысли об этом холодеют, отнимаются у Фроси руки и ноги? Дорог, люб он ей, но даже матери боязно сказать о нем. Неужели испугалась отцовской угрозы? Нет, не может еще она разобраться в своих чувствах и намерениях. Обязательно нужно увидеть Нестора, тогда они вместе решат, как им быть дальше. Не верится, что в самом деле хочет сватать, но, если придет он к отцу, разве согласятся родные отдать ее в казачью семью? Да еще за офицера! Уж на что добрый дедушка Арефий, и тот не любит казаков!
Не гнева богородицы опасалась Фрося, когда мать, нарушив обет, не пошла ко всенощной, а всей душой переживала за Нестора. Он ведь ждет в соборе, где гулко отдаются под сводами в немыслимой высоте громоподобный бас протодьякона и ангельское пение детей и женщин, то перекликающееся со звучным гудением мужского хора, то единым дыханием с ним славящее «жизни подателя». У Фроси от этого пения теснит в груди и слезы просятся на глаза. А Нестор, наверное, опять ничего не слышит: ждет ее, оглядывается по сторонам… Да разве разглядишь в тысячной толпе!.. Повсюду огоньки колеблются в голубом дыму ладана, и то ли от них движутся тени на иконах, то ли, внемля молящимся, склоняются, как живые, лики святых. Смотрит, не мигая, глазастый спас, скорбно сдвинув брови. Грозно-задумчивы очи архангелов. Хмурится и Нестор: обманула, не пришла. «Что же я могу?» — мысленно обращается к нему Фрося.