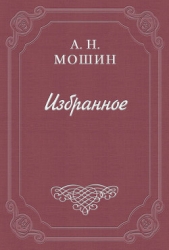Вишневый омут. Хлеб - имя существительное

Вишневый омут. Хлеб - имя существительное читать книгу онлайн
В книгу выдающегося русского писателя, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического Труда Михаила Николаевича Алексеева вошли роман "Вишневый омут" и повесть "Хлеб - имя существительное". Это - своеобразная художественная летопись судеб русского крестьянства на протяжении целого столетия: 1870-1970-е годы. Драматические судьбы героев переплетаются с социально-политическими потрясениями эпохи: Первой мировой войной, революцией, коллективизацией, Великой Отечественной, возрождением страны в послевоенный период... Не могут не тронуть душу читателя прекрасные женские образы - Фрося-вишенка из "Вишневого омута" и Журавушка из повести "Хлеб- имя существительное". Эти произведения неоднократно экранизировались и пользовались заслуженным успехом у зрителей.
Содержание:
Вишневый омут
Хлеб - имя существительное
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Дарьюшка с Пиадой хлопочут, — подумал Михаил Аверьянович. — Петро, наверное, тоже на гумне. Только плохой он им помощник».
Ехали полем. Солнце поднялось и начинало припекать. Кое-где виднелись крестцы не свезённой на гумно пшеницы. На крестцах, разинув белые клювы и приоткрыв крылья, сидели сытые грачи. Трепеща крыльями на одном месте, светлыми поплавками висели в побелевшем воздухе кобчики. От крестца к крестцу, бросая на жёлтую стерню стремительную тень, перелетал лунь. Дорогу то и дело перебегали суслики. Похожие на землемерные столбики, по буграм торчали сурки и пересвистывались. Заработали неутомимые степные молотобойцы — кузнечики, огласили степь несмолкаемым звоном невидимых своих наковален.
Впереди над всем полем царственно высился Большой Map-древний скифский курган. Вкруг него, у подножия, буйно рос осот, который и сейчас цвёл ярко-малиновым цветом. Издали казалось, что на плешивую голову старика кургана надели венок.
О Большом Маре, так же как и о Вишнёвом омуте, сохранилось множество легенд. Одну из них особенно часто рассказывает Сорочиха: казалось, она была ровесницей всей затонской старины.
— Я тогда девчонкой была, а вот как сейчас помню, — начинала она, окружив себя юными слушателями и слушательницами. — Повёз меня покойный отец на поле, раненько так, хлеба глядеть, да и завернул к Мару. «Погодь, Матреша, я што тебе покажу», — байт. Подъехали. Глядь, а в Мару-то дверь, замок на ней пудовый висит. Батюшка мой покопался в земле, вынул откель-то секретный ключик, повернул сто разов в одну сторону и сто разов в другую. В замке-то зазвонило, музыка заиграла, право слово! Играет так-то всё божественное, прямо-таки за сердце хватает, сладкая-пресладкая музыка! Поиграла, поиграла, а потом — хлоп! — затихла. Скрипнул замок, сказал что-то непонятное человечьим голосом, да и упал на землю. А дверь, милые, сама открылась. Взял меня батюшка за руку и повёл. «Иди, говорит, за мной и про себя твори молитву». Шепчу и «Богородицу» и «Отче наш», а сердечко-то колотится, того и гляди, выпрыгнет из грудёв. Вошли в терем, тёмный-претемный, отец спичку зажёг, видим — посреди терема гроб стоит на золотых ножках, весь, милые, в жемчугах да брильянтах, а в гробу, под стеклом, упокойница лежит, уж такая раскрасивая, што ни в сказке сказать, ни пером описать. Лежит чисто живая, брови чёрные, а личико белое-пребелое и губки цветиком-сердечком сложены. Княжна. Князь убил её из ревности, а потом жалко стало, — любил её очень! — заказал в царском граде богатый гроб, построил для неё терем-усыпальницу, а дружине своей, войску, значит, приказал таскать в железных шапках-шеломах землю на могилку-то. Таскали Князевы воины сорок дней и сорок ночей, так-то и вырос Большой Map…
— А где сейчас княжна? — нетерпеливо спрашивали Сорочиху.
— В Мару. Где же ей ещё быть! — невозмутимо отвечала старуха. — Только терем с гробом и дверью опустили вниз сажен на триста, не докопаешься. А кто и пробовал копать, так руки на другой же день отсыхали, — прибавляла она, очевидно, на тот случай, как бы кому из её слушателей не пришла в голову безумная мысль поковыряться в кургане.
…Накаляясь, воздух белел, дышать становилось труднее. Красные шеи сватов увлажнились, по причудливо извилистым канавкам морщин струились ручейки пота, смывая прилипшие к телу сухие былки и лепестки поздних полевых цветов.
Илья Спиридонович первый расстегнул ворот синей сатиновой рубахи, отпустил верёвки на лаптях.
— Жара, — сказал он, щурясь.
— Добрая погодка! Такая с неделю постоит — управимся с уборкой и зябью. Скоро второй спас — сбор яблок. У меня кубышка поспела — хоть сейчас убирай. Яблоки висят — янтарь.
Михаил Аверьянович не договорил, поражённый неожиданно явившейся перед ними картиной.
Из-за Большого Мара во весь дух бежали три человека, которых сваты тотчас же и опознали. Впереди скакал вприпрыжку пятнадцатилетний долговязый Павло, за ним, размахивая кнутом и жутко матерясь, — Микола — огненно-рыжие волосы на нём вздыбились, он угрожающе кричал:
— Убью щенка!
Третьим, приотстав, семенил Митрий Резак. Вдохновляя Николая, он взвизгивал:
— Путём, путём его, Колька!
Павел прямо с ходу, сделав большой, заячий скок, прыгнул в рыдванку и спрятался за отцовской спиной. Преследователи в нерешительности остановились.
— Что такое? — спросил ничего не понимающий и донельзя сконфуженный перед сватом Михаил Аверьянович.
— А кто его знает… — только и смог выговорить загнанный и перепуганный насмерть Пашка.
— Измучился я с ним, тять! — подходя к рыдванке, начал Николай, тоже малость смутившись перед тестем, но лицо его всё ещё перекипало злостью. — Больше ты его не посылай со мной. Лучше уж однорукий Петро… Пашка прогуляет ночь, а днём спит. Поставлю гадёныша за чипиги — засыпает в борозде. Погонычем встанет — лень кнутом махнуть, лошади засыпают… Ну, вот я и того… не утерпел. Хотел поучить чуток. А он видит, дело плохо, и наутёк!..
— Истинная правда, шабёр! — вступился Митрий Резак, белые галочьи глаза его светились горячо, яро. — Лодырь твой младший, каких свет не видывал. А всё оттого, что ты редко секёшь его, сукиного сына! Путём его, долговязого губошлёпа! Путём!
— Ну, Митрий Савельич, это уж моё дело, кого посечь, кого обождать, — нахмурился Михаил Аверьянович. — Ежели ты хочешь знать, я вовсе не бью своих детей.
— Да ну? Не могёт того быть! — страшно и искренне удивился Митрий. — А я своего Ваньку и досе порю, ей-богу!
— Ну и пори на здоровье, а на чужих детей не замахивайся! — поддержал Михаила Аверьяновича Илья Спиридонович, который был зол на Полетаева Митрия с того ещё вечера, когда тот приходил сватать Фросю и сделал весьма смелое и рискованное замечание насчёт скупости Ильи Спиридоновича. — Ты уж не дите. Шестой десяток на свете живёшь да хлеб жуёшь. Нет бы разнять глупых, а ты сам туда же, рад драке: «Путём! Путём!» Недаром, знать, Резаком-то тебя окрестили!
Назревал новый конфликт, это понял Михаил Аверьянович и поспешил погасить искру раньше, чем из неё возникнет пожар:
— Ладно, сват. Успокойся. С кем греха не бывает? Они, рассукины дети, кого хочешь выведут из себя… Садитесь все. Подвезу!
По пути к недопаханным полям помирились. Братья Харламовы сидели на рыдванке рядышком и, небывало кроткие, тихо переговаривались. Последнему обстоятельству немало способствовало то, что Илья Спиридонович успел уже сообщить зятю, что дочь смирилась, тёща тоже и что ныне вечером они ждут его к себе в гости.
На дороге, у своей межи, граничащей с наделом Харламовых, стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Иван Мороз. Он щурил плутовские глаза, что-то соображал. Потом шёпотом, только для себя, раздумчиво заговорил:
— У тестя, конечно, ни хренинушки нету, а вот хохол, тот, поди, квасу бочонок да блинов сыновьям везёт…
И когда рыдванка поравнялась, в голове Ивана Мороза был уж готовенький план, с помощью которого он надеялся быстро расположить к себе Михаила Аверьяновича.
Вышла, однако, осечка. Мороз едва ли не впервые дал маху. Он не знал, что Михаил Аверьянович собственными глазами наблюдал потасовку сыновей, и это погубило его план.
— Орлы они у тебя, Аверьяныч! — заговорил он торжественно, краем хитрющего глаза косясь на торчащий из-под соломы бочонок грушевого кваса и на белый свёрток в задке рыдванки. — До чего ж смирные и разумные парни! Таких, мотри, ни у кого и нет! Взять хотя бы твоего, Митрий Савелич, Ваньку. Не то, ей-богу, не то! С ленцой парень. А эти — ну прямо золото работники!
Речь Ивана Мороза могла быть истолкована не иначе, как откровенная и наглая издёвка, и потому Илья Спиридонович, испытав, в свою очередь, неловкость, прикрикнул на старшего зятя:
— Ну и ты хорош! Чья б корова мычала, а твоя молчала!.. Жаворонков всё слушаешь, а сам глухой, как старая Сорочиха! Звонарь!
Поняв с запозданием свою оплошность, а также и то, что блинов и холодного квасу ему не отведать, Мороз оглушительно высморкался. Грачи, бродившие по свежим бороздам, испуганно взлетели. Наполненный только до половины бочонок ответил Морозу гулким, насмешливым эхом.