Силуэты
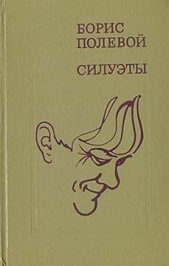
Силуэты читать книгу онлайн
В книге тридцать пять новелл о людях, с которыми автору довелось встретиться в годы войны и впоследствии, во время его многочисленных поездок по стране и за рубежом. Это поэты, писатели, актеры. Рассказы о них иногда становятся литературными портретами, иногда это — короткое воспоминание о каком-то интересном эпизоде, а порой — легкий силуэт. В книге четко намечены две темы: минувшая война и борьба за мир.
Герои Б. Полевого — это те, кто не жалел своих сил и жизни в годы войны, и те, кто последовательно и самоотверженно борется сегодня за мир на земле.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А вот мне очень помогло письмо Алексея Максимовича. Именно его критика, и в особенности критика моего языка помогла, — набравшись храбрости, ответил я.
— Как, разве и тебе он писал? — с некоторой обидой удивился Федор Иванович и как бы сразу похолодел. — Не знал, не знал…
Что именно он не знал, так и не сказал, но, уже не трогая имени Горького, вернулся к теме, которая, видимо, его очень занимала.
— А я вот считал и считаю, что мои «Бруски» тем и сильны, что я обеими ногами на земле стою, что все герои мои не из чернильницы, а из земли, из жизни, что я им сват, брат, кум и свояк… Они ко мне чай пить заходят, мои герои. Кирюха Ждаркин сейчас на Саратовщине большой человек, но как в Москву попадет в наркомат, никогда меня не обойдет.
И хотя Горького давно уже не было в живых, старая обида явно была не забыта. Видимо, рана еще ныла, и разговор снова свернул в прежнюю колею.
— Горькому из-за границы трудно нас было понять. Ну хоть вот этот твой цыган из повести. Ты его тоже из жизни выдернул. Мы хорошо с ним поговорили под грузди. Занятный парень… Груздочки, ох хороши. Я уж договорился, мне тамошние кооператоры бочоночек выделят. Августовского засола. Так вот, жизнь-то не в бинокль, а глазами видеть надо… Ну, пошли, что ли, в гостиницу? Наверное, Василий Павлов там икру мечет.
И уже в подъезде «Селигера» он произнес фразу, которая очень мне запомнилась и которая для меня стала ключом к пониманию его литературных удач и неудач.
— Писатель — он как тот древний мужик Антей. Он силен и необорим, пока обеими ногами на земле стоит. А оторви его от матушки-земли — и нет у него сил. Помните вы это, молодые. Все время помните. Хороший, правильный мужик Антей!.. Ты тоже от земли не отрывайся.
Я долго раздумывал тогда над этой фразой: хороший мужик Антей. И сейчас вот понимаю: добрый, очень добрый мне тогда был дан совет. Теперь как редактор, задумываясь иной раз над неудачной рукописью даровитого писателя, обязательно вспоминаю Антея, вспоминаю Панферова, этого талантливого, сложного, противоречивого человека, щедрою рукой благословившего когда-то и меня и многих писателей моего поколения на литературный путь.
Мадлен Риффо

Бывает, увидишь незнакомого человека, и вдруг начинает казаться, что когда-то и где-то ты его уже встречал. Принимаешься перебирать в памяти случаи, где это могло быть, отвергаешь одно предположение за другим, а уверенность, что ты этого незнакомца все-таки знаешь, растет да растет.
Подобное навязчивое чувство пришлось мне испытать на Третьем Всемирном конгрессе профсоюзов в Вене, когда на скамьях соседствовавшей с нами французской делегации появилась худенькая девушка с необыкновенно большими, очень черными и как-то странно блестевшими глазами, с толстой темной косой, переброшенной через плечо.
По-видимому, она не была делегатом: на скамьях у нее не было постоянного места. Но по нескольку раз в день она появлялась в зале, всегда в одной и той же темной вязаной кофточке, обтягивавшей ее тоненькую, складную фигурку, в неизменном белом накрахмаленном воротничке, оттенявшем густую смуглоту лица. Вид у нее был озабоченный, строгий. И все французы, даже самый старый среди них, знаменитый ветеран рабочего движения, с львиной гривой седых волос, с большими пушистыми усами, обычно мирно дремавший на заседаниях, — все при ее появлении начинали улыбаться и двигаться на скамьях, освобождая ей место.
Кто эта девушка? Где и когда я видел это тонкое лицо?
Дня два безуспешно решал я эту задачу, пока наконец в перерыв, взяв в компанию одного из друзей-делегатов, свободно говорящего по-французски, не отважился подойти к ней, отрекомендоваться и после всяческих приличествующих случаю извинений спросить, где я ее встречал. Вопрос был, конечно, странный. Серьезно, без удивления выслушав его, она отрицательно покачала головой:
— Мы с вами никогда не встречались.
— Но почему ваше лицо мне так знакомо?
Не на губах, а где-то в глубине черных глаз появилась улыбка.
— Вы знаете живопись Пикассо? — спросила она вместо ответа.
И все прояснилось. Ну да, среди реалистических портретов этого удивительного мастера, среди тех немногих его работ, в которых сила своеобразного, оригинального таланта не маскируется нарочитой причудливостью формы, особенно запоминаются три: лирически-проникновенный портрет матери, портрет Мориса Тореза, написанный с необычайной, можно сказать, философской глубиной, и живой хваткой рисунок, изображающий героиню французского Сопротивления, юную девушку, которая однажды, мстя оккупантам за уничтожение жителей села Орадур, днем, в центре столицы, на глазах у сотен гуляющих, выстрелом из пистолета казнила одного из палачей Парижа. Сколько раз, раздумывая над работами этого необыкновенного художника, я старался понять, как это мастеру удалось скупыми, нарочито примитивными штрихами схватить и запечатлеть прелесть сложного образа девушки, почти девочки, ставшей народным мстителем сражающейся Франции! Теперь, вспоминая рисунок, я невольно сличал его с оригиналом.
Лицо на рисунке блещет юностью. Не чувствуется на нем ни этой землистой смуглоты, ни темных кругов, как бы еще увеличивающих и без того огромные глаза. И сами глаза не отмечены тем особым, беспокойным блеском, что так заметен сейчас. И все же несомненно…
— Мадлен Риффо?
— Да, Мадлен Риффо… Я тоже, признаться, все хотела подойти к вам и спросить, как поживает Алексей Маресьев.
— Вы с ним знакомы?
— Да… Он однажды очень помог мне в трудную минуту.
— Где вы с ним встречались? В Париже?
— Нет. Когда он приезжал в Париж, меня там не было. Я была больна… Мы с ним вообще не знакомы. Но я ему страшно благодарна.
— За что?
— О! Это длинная история. Слишком много пришлось бы рассказывать.
— А вы не любите рассказывать?
— Нет, почему же! Я ведь немножко поэтесса. А поэт не может не любить рассказывать…
Еще и поэтесса! Кто же из нас не помнит об этом выстреле, прозвучавшем в дни войны в оккупированном гитлеровцами Париже! Он был символичен, этот выстрел. Он прозвучал, как клич непокоренной, сражающейся Франции, и он нашел отзвук в сердцах советских людей, хотя тогда еще не называли фамилии героини. Я сказал обо всем этом собеседнице. Она оживилась.
— Правда? В Советском Союзе слышали об этом маленьком парижском деле? А как у вас отнеслись к нему? Мне очень важно знать. У вас ведь были, да и сейчас есть товарищи, и хорошие товарищи, которые осуждают меня: интеллигентская выходка, террор не наш метод борьбы и так далее…
Большие глаза смотрели вопросительно, требовательно. Я сказал, что и наши партизаны, среди которых у меня много друзей, так же вот казнили особо зверствовавших палачей, что храбрая советская девушка, живущая сейчас со мной в одном доме, убила гитлеровского наместника в Белоруссии и что теперь она врач, Герой Советского Союза и очень уважаемый в нашей стране человек…
— Нет, в самом деле?.. Спасибо… То, что вы говорите, для меня очень важно…
— Может быть, теперь вы все-таки расскажете о себе?
— Хорошо. Теперь расскажу.
И вот мы сидим в кафе, расположенном по соседству с залом, где идет заседание конгресса. Столики не заняты. Лишь какой-то лысый немолодой репортер в дальнем углу что-то медленно, старательно пишет на узких листках, время от времени прихлебывая из бокала. Из зала едва доносится чье-то выступление, изредка прерываемое гулом аплодисментов. Тихая речь собеседницы течет неторопливо, и понемногу я узнаю, в сущности, простую и в то же время необыкновенную историю этой маленькой француженки.
Мадлен Риффо родилась в семье сельских учителей в деревеньке, находящейся невдалеке от известного теперь всему миру селения Орадур. Родители ее, провинциальные интеллигенты, социалисты по убеждению, мечтали, что и дочь их со временем станет учительницей и социалисткой. Это были непритязательные, трудолюбивые люди, и если теперь из девочки Мадлен, что в белом фартучке и нарукавничках, всегда тщательно причесанная, смирная, ходила в школу, она выросла такой, какая есть, за это она благодарна своему деду Жану Риффо, пастуху по роду занятий, поэту по складу характера и садоводу по всем своим устремлениям. Больше всего на свете этот бедный человек, едва зарабатывавший себе на хлеб, любил розы. На клочке земли возле домика он растил много роз и из десятилетия в десятилетие прививками, перекрестным опылением выводил новые экземпляры самой удивительной расцветки и формы.


























