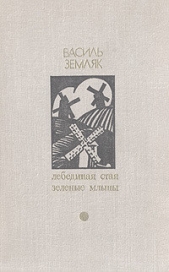Зеленые млыны
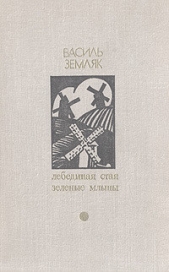
Зеленые млыны читать книгу онлайн
Продолжение вавилонской истории, описанной в первой книге Василя Земляка "Лебединая стая". В Вавилон пришла война.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А тут он отважился привезти Мальву на пруд. Посадил на велосипед и привез. Сошли они под вербой. Мальва побежала пробовать воду. Вода — как кипяток, нагрелась за день, а Мальва любит воду холодную, чтобы проняло. Заметив агрономшу, Сашко Барть велел нам убираться с пруда, побежал прогонять с мостков девчонок, там сразу поднялся такой крик, что пришлось вмешаться Лелю Лельковичу с того берега: «И не стыдно тебе, Барть?!» А какой уж тут стыд, если надо освободить пруд для директора?
Мы шли в село свежие, бодрые под водительством великого скирдоправа и жалели, что молотьбе так скоро пришел конец.
— Хочешь, я познакомлю тебя с Аристидом Киндзей, нашим мельником? — спросил Сашко, останавливаясь у поворота на мельницу. — Это мой друг. Не веришь?
Я знал, что Барть любит бывать на мельнице, в особенности когда там страда. Он помогает Киндзе собирать помольное, следит за очередью, даже выпивает с
помольцами и тогда совсем забывает о школе. А тут признался, что, как помрет Киндзя, то он, Барть, зай мет его место, сложит себе хату возле мельницы, за
ведет голубей и горя знать не будет. Что нигде он, Саш ко, так хорошо не чувствует себя, как на мельнице, от которой берут начало и сами Зеленые Млыны.
Ночь выдалась завозная, как и всегда первые ночи после жатвы. Привязанные к телегам лошади жевали сено, в зарослях улеглись волы прямо в ярмах, помольцы, чья очередь еще не подошла, спали под открытым небом, на мешках. А на самой мельнице не протолкнешься, то тут, то там — гомон, смех, хотя я ожидал здесь торжественной тишины, а может быть, даже печали первого хлеба. На мельнице стоял какой то нереальный, полумистический гул, соединявший, казалось бы, несоединимое и сводящий все к ровному и свободному вращению жерновов, такому же плавному, как на водяной мельнице, где это делает вода. И лад всему этому бурлению, скрежету, вращению шестерен и колес давал Аристид Киндзя, маленький дьявол этого ада, где пахло хлебом, словно только что вынутым из печи.
— Вон он, — показал Сашко.
Киндзя стоял сложа руки наверху, у ковша, усталый, высокий, сосредоточенный, вслушивался в работу камней. На нем была серая кепка, под которой не умещались седые вихры. Он поздоровался с Сашком кивком головы и снова стоял неподвижно, словно бы и ненужный здесь. Подал знак какому то усачу засыпать, а сам спустился вниз, к лоткам.
А там — я сразу заметил — Паня. Вырядилась, как на бал, только что босиком. Хорошо смолол ей Киндзя, улыбнулся, растирая в пальцах муку.
— Непревзойденно! — сказал. — Приходите на пироги.
Паня отцепила мешок, потрясла, уплотняя муку, завязала. Попросила Киндзю помочь ей взвалить мешок на спину, и уже присела, но тут сам черт толкнул меня опередить Паню, взявшуюся уже за узел.
— Я снесу!.. — сказал я смутившейся Пане.
— О, какой рыцарь! — и Киндзя взвалил мешок мне на спину. — Чей это?
— Вавилонский. Мальвин родич… — ответил кто то из за спины Бартя.
Иронический смешок проводил меня до дверей, но теперь, если бы даже и вся мельница расхохоталась, отступать было поздно. Когда вышли, я спросил у Пани:
— Куда нести? Домой? — дескать, могу отнести куда угодно.
— Домой, домой. Обещал заехать Журба, да что-то его «беды» не видно. Забыл или все еще скирдует? А тут два с половиной пуда… — пожаловалась Паня.
— А мне раз плюнуть… — Я даже подпрыгнул с мешком, чтоб знала, с кем имеет дело.
Паня хотела идти по дороге, все еще надеясь встретить Журбу, который поедет с поля. Но ведь этой же дорогой поедут с пруда Лель Лельковяч с Мальвой — я прикинул, что им как раз пора возвращаться, хотя там, на пруду, ничто их не торопит: вода теплая, ночь хороша, можно купаться сколько угодно.
И я уговорил Паню идти напрямик, так ближе. А Журба пускай скирдует свой клевер.
Если же Лель Лелькович и до сей поры на пруду, он, наверное, остановит меня — это предположение сразу сделало мешок куда тяжелей, чем он показался мне сначала. И однако — почему я, сознательный школьник, к тому же влюбленный в историю, как и сам Лель Лсльковнч, не имею права помочь Пане, у которой муж в дальнем рейсе и которой никто не выделил подводу, чтоб отвезти муку с мельницы? Вы же видите, Лель Лелькович, что Паня высокая и ей вон как высоко подымать этот мешок с земли, а мне его нести — одно удовольствие…
Паня словно бы услышала этот мой воображаемый разговор с директором.
— Тебе не тяжело?
— Мне? Нисколечко…
— Гляди. А то поменяемся…
Чудная эта Паня! Что я, перевертыш какой нибудь или не имею отношения к моему гордому Вавилону, чтобы позволить себе взвалить тяжеленный мешок посреди дороги на эти хрупкие и прекрасные плечи, на которых и без того кожа от солнца шелушится? Паня была в безрукавке, и я заметил это еще на мельнице, когда отбирал у нее мешок. Да я скорей надорвусь, а не переложу его на такую грациозную фигурку, какой не было, ей богу, ни у самой Семирамиды, ни у царицы Савской, о чьей красоте Лель Лелькович так рассказывает, словно он сам был в нее влюблен. Не так мы воспитаны в Вавилоне, чтобы не платить за наши чувства.
Иду! В эти минуты весь мир мог бы мне принадлежать, если бы с каждым мгновением он не становился все меньше и меньше — мешок сползал с моих плеч, тянул всего меня куда то назад, но я еще боролся с ним, останавливался, подпрыгивал на одной ноге, балансируя в воздухе. Мешок возвращался на прежнее место, однако теперь он с силой пригибал меня к земле, и я мог видеть только тропинку, которую перебегал цикорий с черными цветами (а им ведь полагается быть голубыми!), да клочок неба над самым горизонтом — на этот клочок так и хотелось опереться рукой, передохнуть. Нет цены, которую человек не согласился бы заплатить за свою любовь, но я, должно быть, переборщил, не рассчитал своих сил, преувеличил их в запале. Вот прошел только полдороги, а чувствую, что мешок одолеет меня, как бы я с ним ни бился, как низко ни клонился бы к земле.
За спиной шуршит Панина юбка из малинового атласа (ее я тоже разглядел еще на мельнице), этот шорох или шелест, напоминающий ветерок в листве, догоняет меня, а стало быть, я уже норовлю удрать от мешка, я уже бегу. Добежать бы до запруды! И уж никак не дальше. Если Лель Лелькович еще на пруду и если он хоть чуточку любит Паню, пусть попробует втащить мешок на кручу к ее хате, это ведь совсем не то, что прогуляться с Паней до сахарного завода на вечерний сеанс, это, Лель Лелькович, работа, да еще какая! Пот заливает глаза, мука, такая мягонькая да теплая, сейчас жжет спину, как раскаленный камень, просто удивительно, что стало с мукой. Вон уже и полоска пруда, а теперь и весь пруд с белым монахом. И никакого Леля Лельковича. Увез уже Мальву после купанья, свежую, веселую. А я выбежал на запруду, напрягая последние остатки воли, исчерпав уже те ее сокровенные запасы, которые приберегает человек, чтобы вынести ради другого человека и не такие муки…
Мешок сам выскользнул из рук, я еще ощутил, как он сползал по спине, но остановить его уже не мог — он глухо упал на землю. Лопнул там, как гриб дождевик (наверно, старый был), и белое марево на миг скрыло меня от Пани. Кто то рассмеялся, не то монах на пруду, не то сама Паня, а когда марево улеглось, на запруде белела кучка муки (совсем крошечная), а рядом стояла Паня в малиновой юбке и не смеялась.
— Принесли… — проговорила она, сокрушенно сложив руки, словно здесь разбилось что-то живое. Я стоял понурясь, проклиная в душе ту минуту, когда сам дьявол подбил меня взвалить на спину этот мешок, А Паия показала на землю: — Поищи там завязку… Что ж поделаешь?
А сама расстегнула свою атласную юбку, шагнула из нее, показала, где завязать, и через минуту уже собирала пригоршнями муку и ссыпала ее в эту атласную меру, которую я тем временем придерживал. Вышел узелок, который Паня в сердцах взвалила себе на спину без моей помощи. Остальное белело йа земле.
— Первый аванс… — сказала Паня и пошла на гору. А я стоял в белом круге и не заметил, как заплакал монах. Но Паня, верно, услыхала его, обернулась.