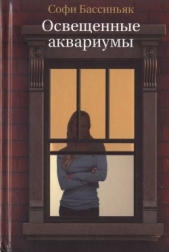Сосны, освещенные солнцем

Сосны, освещенные солнцем читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оставаться надолго в Берлине не хотелось, да и смысла в том не было, и они отправились через несколько дней в Дрезден. И в первую очередь кинулись осматривать галерею — и снова, как и в Берлине, остались недовольны.
— Мы по невинной скромности упрекаем себя в том, что писать не умеем или пишем грубо, — говорил Шишкин. — Но, право, у нас гораздо лучше, я, конечно, беру общее. Черствее и безвкуснее живописи, чем здесь, я никогда не видывал…
— А Рубенс, Мурильо?.. — спрашивал Якоби.
— Рубенс и Мурильо — великие мастера. Но с каким хламом они тут перемешаны…
Шишкин не находит здесь настоящего, близкого душе пейзажа и тоскует по родине, по друзьям: «Эх, жаль, нет Гини и Ознобишина… И зачем я сижу в номере этого Штадт-Кобурга, отчего не в России, я ее так люблю!»
Но залы галереи ему понравились. Просторные, с хорошим освещением, без всякого шику. И рамы хороши, сделаны скромно. Ничто не выпирает, не лезет в глаза.
— Нет, нет, ты обрати внимание, — говорит Шишкин Якоби, — мы этим не можем похвалиться. Мы любим иногда закатить что-нибудь этакое сверх меры, раму, скажем, так раз во сто дороже самой картины…
Шишкин и Якоби, пробыв здесь недели две, решили ехать в Швейцарию. И опять не продумали до конца план своего путешествия — двадцать седьмого мая выехали из Дрездена, а пятого июня были в Праге. «Сейчас только поняли, — пишет домой Шишкин, — что не туда попали… нужно было ехать в Бромберг, а не в Прагу, которая для пейзажиста не представляет ничего замечательного, бедны и ее окрестности…» Прага большой, шумный город. Шишкин и Якоби исколесили его вдоль и поперек, разыскивая дом Колара. Пражский художник встретил их ласково, приютил, он отлично говорил по-русски, что немало облегчило друзьям жизнь. Подвижный, общительный и предприимчивый Колар был превосходным чичероне и за короткое время пребывания Шишкина и Якоби в Праге сумел их познакомить со всеми достопримечательностями города, показал галереи, соборы, знаменитые Градчаны, друзья ходили слушать орган, побывали однажды на празднике освящения знамени чешских певцов, где встретили русского музыканта, несказанно ему обрадовавшись. Вечером собрались вместе, вспоминали о России, о белых петербургских ночах, и музыкант, растроганный до слез разговором с художниками, взял скрипку и заиграл… В это время сверкнула молния, ударил гром, зазвенели стекла, лампа погасла, и в кромешной тьме скрипка звучала таинственно и печально… Снова ударил гром, со звоном где-то упало стекло. Музыкант подбежал к окну и засмеялся громко, воскликнул:
— Вот это музыка!..
Наверное, под впечатлением грозы и музыки Шишкин долго в эту ночь не может уснуть, бродит по двору, как лунатик, пытается писать письмо: «Скорее бы на натуру, на пекло красного солнышка… Природа всегда нова, не запятнана… и всегда готова дарить неистощимым запасом своих даров, что мы называем жизнью…»
Жизнь в Праге становится однообразной. Ничего толкового ни Шишкин, ни Якоби здесь не сделали и вскоре перебрались в Пардубице, прожили там все лето, разъезжая по Богемии, останавливаясь в более интересных, понравившихся местах, но погода стояла холодная, дождливая, не давала работать…
Отсюда Шишкин снова уехал в Германию, зиму провел в Мюнхене, наняв небольшую, сходную по цене мастерскую. По-дружился с местными художниками братьями Бено и Фридрихом Фольц, которые упорно пытались в то время «совместить пейзаж с животными», получалось нечто невообразимое. Шишкин тоже попробовал, но из этого ничего не вышло. Зимние вечера тянулись долго, снег на тротуарах лежал грязный и мелкий, и в комнате скапливался жиденький серый полумрак. За стеной кто-то пел по-немецки. Невыносимая тоска охватывала Шишкина, он не находил себе места. Работа валилась из рук. Прислушиваясь к чужому, незнакомому голосу за стеной, тихонько начинал петь свое, русское. «Не уезжай, голубчик мой, не покидай поля родные…» Ах, если бы сейчас оказаться там, среди закамских снегов, или на Валааме, или в Сокольниках, чтобы до костей промерзнуть, а потом сидеть за столом, пить крепкий чай и спорить, говорить с друзьями об искусстве — столько в душе накопилось!..
Иногда он заходил в ближайшую таверну, тут подавали доброе вино и свежее баварское пиво с устрицами. Приходили Бено или Фридрих Фольц, садились рядом, но разговор не клеился. Однажды, сидя за угловым столиком, по соседству с компанией подвыпивших немцев, Шишкин заметил, как те выразительно, с насмешкой поглядывают на него и что-то такое мерзкое говорят о русских «фрау», а заодно бранят и саму Россию, грязную, дикую страну… Шишкин кое-как уже мог изъясняться по-немецки, однако сделал вид, что это его не касается, отвернулся. Но соседи не унимались. Он встал, подошел к их столику и, ткнув себя пальцем в грудь, сказал: «Я русский. Их бин руссиш. Уразумели? Прошу прекратить». В ответ — хохот, издевательские реплики: «О, руссиш крафтменш! О! ха-ха-ха!» Тогда Шишкин подошел вплотную, молча взял одного из них за воротник и рывком поставил перед собой. «Ты что, не понял? Я русский!» Остальные, опрокидывая стулья, бросились на выручку. Шишкин прошелся медведем, расчищая себе дорогу к выходу. Оказавшись на улице, он дал волю кулакам, поработал в полную силушку — раззудись, плечо, размахнись, рука! Только покрякивал, будто дрова колол. И по нечаянности зацепил кулаком совсем некстати подвернувшегося полицейского. На другой день Шишкина вызвали в участок. Явились пострадавшие. Один с перевязанной щекой, у другого синяк под глазом с добрую вишню, третий идет, как на ходулях, шея не поворачивается. Проходя мимо, с опаской поглядывали на Шишкина и торопливо отводили глаза. «Ого, — подумал он весело, — их, оказывается, было семеро!» Полицейский начальник тоже удивился, недоверчиво спросил: «Так вас было семеро? А он один?» И расхохотался. Потом, словно спохватившись, насупился, согнутыми пальцами постучал по столу и тихо, но твердо сказал: «Все ясно. Можете идти». Это он тем сказал, семерым, и что-то еще добавил, покрепче. Видно, стыдно ему было за них — семеро против одного. Умным оказался начальник. Но Шишкина все-таки оштрафовал на пятьдесят гульденов. «Это не за тех, — сказал он, махнув рукой в сторону двери. — Наш полицейский тоже пострадал. Надо знать, господин Шишкин, кого бить…» — наставительно добавил и, улыбнувшись, пожал Шишкину руку.
Молва о русском богатыре с молниеносной быстротой облетела город. Уже через день Шишкин своими ушами слышал рассказ о том, как «русский великан» расправился с десятью немцами, через неделю число «пострадавших» увеличилось вдвое, а «руссиш крафтменш», оказывается, дрался одной рукой, в другой он держал, чтобы не помять, купленную в Мюнхене шляпу. Какой-то вездесущий фотограф умудрился снять Шишкина и теперь вовсю торговал его портретами. Шишкину не хотелось показываться на улицах. Его узнавали, на него указывали пальцами…
Здесь, в Мюнхене, Шишкин сделал несколько превосходных рисунков пером, местные знатоки и художники были в восторге, называя его великим рисовальщиком. И все-таки известность пришла к нему иными путями. Шишкин с грустной усмешкой говорил: «Да, выходит, кулаками славу добывать проще, чем рисунками…»
Едва дождавшись весны, Шишкин уехал в Швейцарию. Живописные долины, чистый альпийский воздух, приветливые люди — все, казалось, должно способствовать работе. В горах Оберленда он с жадностью набросился на этюды, много рисовал. Но ни этюды, ни рисунки его не удовлетворяли.
Опять на него навалились тоска и апатия, опускались руки, целыми днями слонялся он без дела, часами сидел неподвижно, уставившись в одну точку, и видел красивые и холодные, застывшие перед глазами скалы, деревья, густые заросли дикого виноградника, пытался сравнить их с валаамским или подмосковным пейзажем и не находил ничего общего. «Нет, нет, — говорил он вслух, желая быть справедливым. — Здесь все прекрасно — и горы, и леса… но все не то, все холодно… Как гравюры Иордана».
Его рассмешило, что далеко от России, здесь, он вдруг вспомнил профессора Иордана, с которым, будучи в Академии, и двумя словами не обмолвился. Иордан был строг, сух до педантизма и признавал гравюру только на меди.