Три тополя
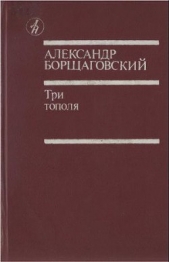
Три тополя читать книгу онлайн
«Три тополя» — книга известного прозаика Александра Михайловича Борщаговского рассказывает о сложных судьбах прекрасных и разных людей, рожденных в самом центре России — на земле Рязанской, чья жизнь так непосредственно связана с Окой. Река эта. неповторимая красота ее и прелесть, стала связующим стержнем жизни героев и центральным образом книги. Герои привлекают трогательностью и глубиной чувства, чистотой души и неординарностью поступков, нежностью к родной, любимой природе, к детям, ко всему живому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В родной избе отец бывал все реже, подрабатывал в соседних селах, темнел лицом от водки, а когда накатывала блажь и тоска по Евдокии, являлся, уверенный, что простит и пустит. Пускала, но уже без радости: и ссоры бывали, и темные быстрые кулаки Евдокии, колотящие в грудь отца, и его охальный смех, как при чужой бабе. Потом и так повелось: мать выставит на стол что есть в доме, прихватит коромысло и ведра, будто по воду надо, бросит все у крыльца, сорвется на ферму — с рассвета ее ведь ждут тугие коровьи соски, и немало сосков, успеешь при них и выплакаться и просохнуть. Обиженный отец уснет один на семейной кровати, а Зинка стирает ему, пока тот спит, и сушит, и наглаживает, чтобы папка был в чистом, чтобы утром снова нравился всем. По разумению Сережи и мать и отец были старые, а Зинке старой виделась только мать: в трудах она сравнялась с бабами постарше и копошилась в безвозрастном бабьем навале; отец молодой, не зря даже девушки засматриваются на него. А отец был на пять лет старше Евдокии, и в беспутном его сердце не все заглохло, и совесть его не вся вышла с похмельем; он и года не продержался в селе. Пришла осень сорок шестого, трудная еще, голодная, зарядили тоскливые ранние дожди, затосковал и он, раздобыл где-то денег, привел двухгодовалую Ласточку и сорвался надолго, навсегда. Сергей и Зина увидели отца в гробу, когда мать привезла его со станции с диковинным именем Арысь. Село дивилось тогда, как Евдокия после телеграммы мигом собралась, будто была готова и всегда ждала беды, как, бесслезная, черная лицом, полетела в Казахстан, и не дала схоронить его там в мерзлой степной земле, а привезла домой — добилась, все превозмогла, и помогал ей в том однополчанин мужа, рябой, незавидный мужичишка.
Этого даже Зинка не повернула против матери, — недоброе пришло на ум позднее, когда рябой прислал письмо Евдокии, и Зина своей волей пресекла и письма и чужую тоску. Зина тогда уже переехала в Марусину избу и наказала почтовым девочкам все домашние письма передавать ей.
О своих семейных неурядицах сестра Сергею писала глухо, а о грехах Евдокии в каждом письме — с надрывом и причитаниями. И мать словно отдалялась от него, в памяти размывалось доброе: серый и голубой нежный свет ее глаз, мускулистый голодный рот, даже и в улыбке стиснутый, чтобы не соблазниться, не откусить ненароком от черного ломтя, а разрезать хлеб надвое и сунуть детям, чтобы при ней и съели, а ей чтобы на сердце спокойнее. Уходило стыдливое, с детства памятное удивление перед маленькими ее ногами — меньше Зинкиных, — перед плавной подвижностью ее тела и завораживающей сменой ритмов: то быстрых и ловких движений, то замедляющихся до мечтательной, скрытой неподвижности, за которой другое движение — внутреннее, спрятанное, как биение сердца, как частые удары голубой жилки у виска и на худенькой шее. Ничего такого Сергей не мог бы объяснить про свою старую мать даже и самому себе, но чувствовал это глубоко и определенно, с отчетливостью резкого, разящего запаха.
Одно подозрение, что мать гуляет, гуляет после всего — схоронив мужа, вырастив его и сестру, — гуляет, прожив жизнь, мысль, что она бывала сильной и гордой с отцом, а теперь, как пишет сестра, стелется перед кем-то, — одна эта мысль ошеломляла, заставляла Сергея страдать. В тайниках детского сердца он давно поделил семью: отец — живой и мертвый — принадлежал Зине, мать — ему. Отца он не успел понять; потянулся к нему, гордился им даже, но был и страх и слезная досада, обида мыслящего щенка, отвергнутого без злости, походя, по обстоятельствам жизни, не принятого в расчет, попросту незамеченного. И тот, кого мать привезла в гробу со станции Арысь в январе, когда Сергею уже минуло шестнадцать, был чужой, с седыми висками, со строгим, каменным, замороженным лицом, только выпуклые, обтянутые веком глаза напоминали знакомого Сергею человека.
Мать принадлежала ему, хоть и он вырос в отца: крупный, большерукий, лобастый, только глазами и русым волосом в Евдокию. Но у матери волос шелковый, с блеском и тяжелый, а у Сергея — пух, редеющий со лба. За мать как будто отвечал он, и вот он служит на юге в Самарканде, уже и не в пору лысеть начал, а мать гуляет. Он всегда думал, что застенчив и неуклюж в сердечных делах оттого, что пошел в мать, проникся ее робостью, перед этим, ее стыдливостью, ее прерывающимся, беззащитным ночным шепотом, — оттого он так неловок с девушками, — а мать, оказывается, гуляет! И мысль, что кто-то с ней и она прячет от того человека некрасивые, испорченные руки, и льнет, и ластится, и целует, открывая тугие сборчатые губы, а сама исчезает, принадлежит другому, — приводила Сергея в ярость, до дрожащих рук, до метания на железной казарменной койке.
Рябого провожатого со станции Арысь Сергей в памяти почти не удержал: не было тогда интереса. Запомнил, что человек стоял на лютом морозе без шапки — суконную ушанку держал в руке, — и волосы плохо покрывали голову; короткий, мальчишеский волос, редкий на темени. Стоял в ватнике, в брючках на тонких ногах; прихрамывая, спешил ко всякому делу — копать могилу, подымать гроб, заколачивать крышку, — будто не надеялся, что жители села сумеют все сделать хорошо и вовремя. Прожил в селе три дня, ночевал в сельсовете, кормился в чайной. Неприметный и тихий, видно, из тех, кто всегда на подхвате; еще запомнилось, что лицом он был темнее всех вокруг, а рябой так, что и глазам бы в пору не уцелеть перед немилосердной оспой.
Когда Зина сообщила, что он пишет матери, подозрение вынесло еще какие-то подробности из прошлого: что гость был на протезе и ботинки на нем разные, тот, что на железной ноге, помнится, остроносый и пыльный; что ладно и тихо говорил: кто послушает его, поймет, что человек он истинно русский, а калмыцкий глаз и жесткий волос с прядкой на лбу и приметная на узком книзу лице скула и нетронутые годами, белые, отчетливые, как у татар или монголов, зубы — все это от давнего, в далеких предках смешения кровей, от которого едва ли какой русский край уберегся за века.
Еще припоминал Сергей или думал, что вспоминает, и уже рисовал от себя потревоженной, недоброй памятью улыбку похоронного гостя, кривую и дергающуюся, как от контузии, вроде застенчивую, виноватую, что прибыл в село с таким грузом; теперь и улыбка казалась бесстыдной, притворно-доброй. Карие, стрелкой глаза в припухлых веках показались на похоронах справедливыми и умными, а теперь и о них думалось иначе, что глаза эти хитрые, расчетливые, и человек себе на уме: помнится, все село дивилось, что чужой человек поднялся с далекой Арыси и билеты покупал в оба конца, и все на свои, на свои. Зачем? Слепому видно, что не из богатых. И люди вспоминали войну, в ней искали разгадки, в ее братстве и щедрости и в том, как война унизила деньги, отняла их старую цену и покатились они под гору. Значит, были у пришлого мужика и у мужа Евдокии свои добрые счеты, перед которыми и деньги пятьдесят шестого года настоящей цены не имели.
Но Зина, перечитывая письма рябого к матери — она их не сразу жгла, — не искала доброго ответа. Чего ради в ту немилосердную зиму просидел с матерью две ночи в нерабочем тамбуре, чего морозился в ватнике на ветру, в кузове колхозной машины? Неужто человеку свое не дорого? Неужто так пожалел Евдокию, едва повстречал на Арыси: она ж и платка красивого не надела, сорвалась в бабкином, деревенском, как богомолка, страдалица, глядите, люди, как я по мужу убиваюсь, о себе подумать не успела! Чего ради он отца повез? Выходит, он уже тогда приволокнулся за матерью, принялся, видать, с ходу утешать ее и себя хотел показать, ничто другое, себя, свою щедрость и открытый карман. А что ночевал не у них, в сельсовете, — это от хитрости, простой человек пожил бы у них, ему бы на ум не пришла грязь, а этот хитер, святоша, вот и перемудрил. И еще писала Зинаида, что он старый, старше их отца, что вдовец и нарочно дал знать об этом в письме Евдокии; мол, всякая боль проходит, он тоже страдал и мучился, когда скорый «Москва — Алма-Ата» убил его жену, а с годами отошло, отболело, живое о живом думает (тогда он и ушел из депо на переезд, тут ему на протезе легче). И вот у такого, у козла, мать ночевала, во вдовом, бездетном доме, в сторожке, где и повернуться двоим тесно, в железнодорожной будке — в окно поезда кричат, зови — не услышат, — и койка-то одна, а она заночевала, не постыдилась людей. А может, их там и нет, людей, пустыня кругом, он и приволокнулся и запомнил ее, крепко, видать, запомнил, на письма потянуло. А еще припомнила Зина, что мать не голосила по отцу и ноги у нее не подгибались. Шла и шла за гробом, как и чужие шли, как весь актив…

























