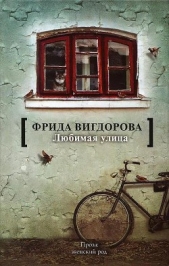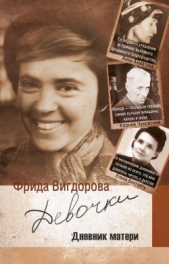Это мой дом

Это мой дом читать книгу онлайн
Повести Ф.Вигдоровой (1915—1965 г.г.) представляют собой единую книгу о педагогическом труде, о том, как Семен Карабанов, один из главных героев «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко, пошел по стопам своего учителя и посвятил свою жизнь воспитанию детей, лишенных родителей.
Книга эта отнюдь не документальная. Это – повесть-трилогия, увлекательно рассказывающая о трудовой и горячей, богатой горестями и радостями жизни, целиком отданной детям. Это история детского дома, которым руководит Карабанов, а потом, в дни войны, его жена Галина Константиновна (названная в «Педагогической поэме» Черниговкой).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Наконец-то мы снова шагаем по тихой лесной дороге.
– Ну вот и побывали в гостях, – говорю я. – Теперь смотри, раньше чем через год не зови – не пойду!
Галя засмеялась. Но тут же сказала, что ей очень жалко всех: и Ивана Никитича, и Анну Павловну, и Лидию Павловну. Такие славные люди, такие у всех хорошие лица… И видно, всем было так неприятно… Жаль их.
Я слушал ее и снова видел перед собой Ивана Никитича. Да, хорошее у него лицо. Умное, серьезное. Высокий лоб. Сильный, одаренный человек. У него такие талантливые руки, такой зоркий взгляд. Скольким людям он возвратил здоровье, а может быть, и спас жизнь. Так почему же он позволяет, чтобы у него в доме совершалось преступление? Если исход будет трагический – а он не может быть иным, – кто станет отвечать за исковерканную, неудачную жизнь? Тогда поздно будет разбирать это с точки зрения педагогической, психологической и со всех иных возможных точек зрения,
– Нет, – сказал я Гале, – мне их не жаль!
После памятного первомайского вечера комсомольцы сахарозавода не забывали нас, за лето дружба наша окрепла. Недели за две перед Ноябрьскими праздниками нас снова навестили Маша Горошко с двумя подругами. Лица у них были веселые, таинственные. Взяв список ребят, они против каждой фамилии помечали: «белый», «чёрный», «рудый», а если не знали кого, говорили:
– Ну-ка, приведите его, поглядеть надо,
– На что вам? – приставали наши.
– Да уж надо, – туманно отвечали девушки.
Секрет раскрылся 8 ноября. Комсомольцы приехали к нам в гости. А в конце вечера они открыли большой ящик, на который мы поглядывали с интересом, но из деликатности но спрашивали, откуда он взялся и зачем.
– Кто у вас тут будет Настасья Величко? Это ты и есть Величко? Тут написано «беленькая». Покажись. И вправду беленькая? Вправду! Ну, держи розовую тканину, раз беленькая… А ты чёрнобривый – тебе на белую рубаху в самый раз. Держи, Лира!.. А ты рудый? Тебе все пойдет, ты счастливый. Гляди, какой ситчик, всем ситцам ситец!
Такими словами, точно горохом, сыпал Петро – легкий и быстрый в движениях паренек чуть постарше Мити. Он говорил и действовал без передышки: вынет материю, бойким глазом глянет в список, потом на мальчишку или девчонку, чёрнобривца или рудого, вручит подарок и тотчас выкликает новое имя. А они только и поспевали промолвить «спасибо», на то, чтобы растрогаться, времени уже не было.
Когда комсомольцы уехали, Зина Костенко спросила:
– А когда сошьем?
И вдруг Виктор Якушев сказал:
– По-моему, шить не надо. Пускай лежит. Когда мы 6yдем выходить из детдома, у каждого будет припасено что-нибудь. Вот этот ситец, и еще что-нибудь наберется к тому времени.
– Ишь, – сказал Ступка, – разумный какой парень! Про черный день думает!
Нельзя было понять, что в его голосе – одобрение или насмешка.
– Чего там – черный день! – сказала Лючия Ринальдовна. – Не хочу никого обижать, да ведь ситчик-то простенький – что он будет через несколько лет? Рассыплется! Надо шить к весне. Будет у каждого новая рубашка или там блузочка – вот и хорошо.
– А почему, когда мы будем выходить, это будет черный день? – спросил Горошко.
– Это просто так говорится, – ответил ему Якушев. – А если подумать, правда – что же у нас будет? У других – отцы, матери. А мы? Не одеты, не обуты.
– Почему это не одеты? Почему не обуты? – Горошко задет, лицо у него непривычно озабоченное.
– Каждый, кто станет работать, будет и одет и обут, – вставляет Василий Борисович. – Ну, а кто станет ждать, чтоб для него напасли, тот, конечно… Кроме того, ты, Виктор, знаешь: от дохода с мастерских часть пойдет в фонд совета. Из этого фонда каждому будет доля на обзаведение на первых порах самостоятельной жизни. И кроме того – зарплата.
– Какая там зарплата! – произнес Якушев.
– Станешь робыть добре – и зарплата будет добрая, – снова откликнулся Ступка. – Ежели ты такой разумный, скопишь себе довольно…
– А когда шить будем? – робко вступает Настя.
– Скоро и начнём, – говорю я. – Если все девочки возьмутся, то и не к весне, а к Новому году будем с обновкой.
– Я сам себе сошью! – говорит Горошко. – Лучше всех!
Вскоре после праздников явился инспектор Кляп. Он сообщил, что ему известно: комсомольцы сахарозавода преподнесли воспитанникам подарки.
– Да, – подтвердил я, – верно, преподнесли.
– Заприходованы они?
– Нет, не заприходованы.
– Почему?
Признаться, мне и в голову не пришло, что подарки надо заприходовать. Где они? В швейной мастерской.
Кляп идет в швейную мастерскую, вынимает из ящика свертки ситца, пересчитывает.
– На десять человек не хватает. Где остальное?
– Значит, у ребят в тумбочках.
– Кому принадлежит этот кусок?
– Не знаю.
– Как же вы не знаете?
– Но ведь дети знают, каждый помнит свой цвет, а по величине куски все одинаковые, по два метра, – что ж тут мудреного?
Всегда розовые щеки Кляпа густо багровеют. Даже смотреть страшновато: вот-вот его хватит удар!
– Да вы понимаете, что это такое? Что это за бесхозяйственность странная? Как вы смели не заприходовать? И десяти кусков не хватает! Очень просто наживаетесь, товарищ Карабанов! Вот я велю сейчас обыскать вашу квартиру!
Я делаю шаг к нему, и тут между нами становится Василий Борисович.
– Сейчас я скажу ребятам, чтоб снесли сюда недостающие куски, – говорит он.
Кляп передергивает плечами и идет к дверям.
– Я сам должен убедиться, у воспитанников ли эта материя. Мне известны такие махинации, не первый год работаю! – кричит он уже за порогом.
– Возьмите себя в руки, – сердито, но очень тихо говорит мне Василий Борисович, выходя следом.
Я до боли стискиваю зубы и стою недвижно. Нет, не останусь здесь. Уеду. Пускай меня пошлют хоть к черту на рога, в любое место, в любую колонию, только не оставаться здесь, пропади оно все пропадом.
Вечером, когда я пишу заявление на имя Коробейникова, приходит Василий Борисович.
– Заявление об уходе? – спрашивает он.
Молчу. Казачок садится напротив. Лицо его замкнуто.
– Я перестану вас уважать, если вы уйдете.
– Что же, по-вашему, я должен это терпеть? Это гнусное, оскорбительное издевательство?
– Нет. Но спорить с Кляпом таким образом – это, по-моему, малодушие.
– Так вот: я не намерен выслушивать Кляповы гнусности. Уйду, покуда еще могу уйти.
– Я думал, вы мужчина, а вы, извините, баба… да ещё истеричная.
– Ого! – Отшвырнув заявление, я встаю.
Василий Борисович сидит и глядит на меня, и, как я ни бешен, я вижу – глаза его смотрят по-доброму. Но не надо мне сейчас его доброты и сочувствия.
– Антон Семенович тоже не стал терпеть издевательства, – говорю я, стараясь не дать волю обиде, злости, ярости. – Он ушел, оставил колонию, которой отдал восемь лет жизни. Восемь лет! И столько крови своей, что в ней можно было захлебнуться! А мне что же…
– Как вы смеете сравнивать? – обрывает меня Казачок. – Он восемь лет боролся – и не бежал, а ушел, как говорят на войне, на заранее подготовленные позиции и оттуда, собрав силы, дал новый сокрушительный бой. А вы… Впрочем, как знаете, вы не малый ребенок, в конце-то концов!
Василий Борисович встал и, не оглянувшись, вышел. Я вернулся к столу, поглядел на заявление… Нет, не нужно оно мне сейчас! В груди кипела бессильная злость, и я больше не думал о Кляпе – не до него мне было.
Я вышел в другую комнату. Галя уже легла. Даже при слабом свете затененной газетным листом лампы я увидел – ее глаза блестят и сон далеко.
– Слышала? – спросил я.
– Слышала.
– И что скажешь?
– Что же я скажу? Ты и так знаешь. Ты ведь и сам отсюда не уйдешь.
Зима стояла теплая, и с начала марта было строго-настрого запрещено кататься на коньках по речке. Но как-то, проходя мимо горки, я увидел Николая – с лихим посвистом он несся на санках прямо на тусклый речной лед.