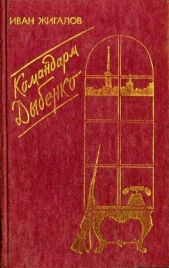Зарницы красного лета

Зарницы красного лета читать книгу онлайн
Произведения, вошедшие в сборник лауреата Государственной премии СССР М.С.Бубеннова посвящены борьбе за Советскую власть в годы гражданской войны. В повести «Зарницы красного лета», во многом автобиографичной, писатель рассказывает о повстанческом движении против белогвардейщины на Алтае, где под руководством отважных и мужественных командиров Петра Сухова, Ефима Мамонтова, Игнатия Громова и др. героически сражались многотысячные партизанские силы.Развернув летом и осенью 1919 года широкие военные действия в тылу Колчака, партизаны оказали большую помощь молодой Красной Армии. Повесть «Бессмертие», рассказы «Огонь в тайге» «На Катуни», «У старого тополя» и «Чужая земля» дополняют картину далекого грозового времени, когда советские люди с оружием в руках отстаивали завоевания Великой Октябрьской социалистической революции
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А вот я один из самых счастливых, это точно. Завтра же я услышу, как потрескивают на острие лемеха корни трав, и увижу, как укладывается, будто завиваясь, обнажая свою изнанку, пласт земли, как черная вспаханная пашня, с отчетливо заметными бороздами, все ширится и ширится в степи, поблескивая влажно и маслянисто.
И еще мне было радостно оттого, что я, выезжая в степь, чувствовал себя гораздо взрослее, чем вчера. Да что там взрослее! Мне казалось, что отныне я на равных вступил в общество взрослых людей.
Иной раз юный человек за один день проделывает путь, равный пути в несколько лет. Вот таким был для меня тот день, когда я впервые, как настоящий взрослый крестьянин, выезжал на пашню. Вскоре уже не отец, а я держал вожжи и правил лошадью. И если случалась надобность, вместе со всеми спрыгивал с телеги, помогал вытаскивать ее из колдобин на гати.
Вероятно, тот день был самым обыкновенным майским днем для наших мест. Но мне он казался во всех отношениях исключительным. На что ни взгляни — все было не таким, как вчера. Конечно, гать была плохой, ухабистой. Приходилось часто помогать коню. Но что за беда! Подумаешь, бродни до колен в грязи! Обмыл в луже — и дальше! Над низиной, во многих местах все еще залитой вешней водой, недавно носились и гомонили огромные стаи пролетной дичи. Теперь здесь пусто. Лишь одни чибисы носятся, надоедливо крича. Они любят солончаковые низины, покрытые реденькой, низенькой травкой, и уже наделали здесь гнезд. Но сейчас и эти крикливые птицы не раздражают. Летайте, носитесь, никому вы сейчас не нужны! У нас, взрослых людей, есть более важные дела, чем зорить ваши гнёзда!
Но вот окончилась низина с проклятой гатью, и началась целинная степь. И вот тут-то уж никак невозможно было усидеть на телеге! Хорошо было бежать ровной целиной, на которой начинали оживать дернинки типчака, а между ними уже синела мелкоцветьем богородицына травка. В степи было пусто, совсем пусто, но этой пустоты не чувствовала моя душа. Вся она заполнялась тысячеголосым, нескончаемым пением жаворонков, неутомимо трепещущих в ослепительной небесной выси. Ничего, ничего мне не надо было в эти минуты, только бы не стихало нежнейшее серебристое журчание над головой! Ведь кажется, что это сама весна благословляет тебя на великое дело. Прикрываясь от солнца, я всматривался в высь, стараясь отыскать в ней певцов родной степи. Но они как невидймки. Их тысячи, а поют они одну песню. И я думаю, что пигде нет таких певцов, как в нашей степи.
Между тем одни гуселетовцы сворачивали направо, другие налево и по едва заметным на целине колеям направлялись к своим заимкам. Наш маленький обозик в конце концов остался один на главной дороге, ведущей в соседнее село Романово. Вскоре и мы свернули к небольшим березовым колкам. Это место почему-то звалось Прирезкой — вероятно, здешние пашни были «прирезаны» гуселетовцам во время первого землеустройства.
Гуселетово стало заселяться лишь в 1811 году, почти на сотню лет позднее деревушки Шаравиной, где жили мои предки, и некоторых других ближних сел. Но все же оно считалось старожильческим. Восемьдесят лет гуселетовцы жили, не деля землю: какие участки захватили первые заселыцики, те из года в год и продолжали пахать их потомки. Земли всем хватало. Но в первые годы нашего столетия в село валом повалили переселенцы, и в 1908 году здесь впервые был произведен раздел земли между всеми члепами земельного общества, старожилами и новоселами. Не знаю точно, успели ли гуселетовцы произвести передел земли после революции, весной восемнадцатого года, на основе законов уже Советской власти. Вероятно, успели. Хорошо помню, как отец, приехав на пашню, показал мне клин земли, принадлежащий нашей семье — ведь она всегда считалась состоящей в гуселетовском земельном обществе, хотя и жила в Почкалке. И хорошо помню, как во мне, юном крестьянине, заговорил тогда собственник: я порадовался, что нам кроме пашни принадлежал и небольшой колок, где хорошо побродить, собирая цветы сон-травы и слушая щебетание птиц, а в жаркое время спрятаться от солнца в тени берез, полакомиться хорошо утоляющей жажду костяникой.
Побродив с дедушкой Харитоном и дядей Павлом по пашням, отец вернулся к землянкам и вдруг объявил, что сейчас же возвращается домой. Это было для меня неприятной неожиданностью. Не помню точно, чем отец объяснял свое решение. Кажется, тем, что сейчас, когда просохли дороги, ему надо построже следить за своим объездом, осмотреть и, если потребуется, отремонтировать пожарные каланчи. Но когда отец сказал, что вряд ли вообще вернется на пашню, я понял, что ему почему-то пе до пахоты.
Только после отъезда отца я сообразил, что мое положение как земледельца весьма незавидное: у меня нет своей лошади, своего плуга, своей бороны да и своих семян. Все чужое — дедушки Харитона и дяди Павла. Своего у меня — три буханки хлеба, кое-какие харчишки да деревянная ложка. Вот и все.
Лишь после я узнал, что дедушка Харитон и дядя Павел, учитывая наше бедственное положение, по-родственному решили своими силами и своими семенами засеять нам для разживы несколько десятин. А я был послан на пашню всего-навсего ради того, чтобы быть вместе со своими друзьями и помаленьку приучаться к мастерству земледельца. Вероятно, именно в этом родители и видели тогда мое призвание, тем более что всеми давно была замечена моя тяга к земле и ко всему, что на ней живет и растет.
И все же, несмотря на неловкость ситуации, в которой я очутился на пашне, я был счастлив, безмерно счастлив...
II
Остаток первого дпя на пашне, к сожалению, ушел на мелкие, незначительные дела — не ради них мы, конечно, с таким восторгом отправлялись в степь. Но и они были довольно интересны.
На нашей заимке поблизости друг от друга, вдоль восточной опушки колка, стояли четыре землянушки — Зыряновых, дедушки Харитона, Елисеевых и Черепановых. Они были выложены из кусков целинного дерна, да и покрыты поверх наката из соснового вершинника тоже плотно уложенной, будто слитой в один кусище дерниной, с которой легко сходила вода. В землянуш-ках пришлось наводить полный порядок: обметать вениками потолки и стены, выгребать из всех углов разное гнилье и застилать нары пшеничной соломой, просушенной на солнце. Затем устроили новые таганы над выжженной кругами за прошлые годы земле и заготовили в колке целые вороха березового сушняка.
Поблизости от каждой землянки были загопы с навесами, крытыми соломой, с деревянными колодами, в которых задавался коням овес и замешивалась сечка с отрубями. Кое-где у загонов подгнившие жерди были поломаны оседавшим настом или — еще по осени — самими лошадьми во время драк. Пришлось чинить изгороди лежавшими в запасе жердями. Наконец перед загонами уложили привезенные с собой шершавые куски-плиты слежавшегося, почти окаменевшего бузуна, добытого на местном соляном озере,— перед тем как идти к колодам с кормом, кони очень любят всласть нализаться соли.
Все мужчины (а на пашню выехали одни мужчины!) работали с одинаковым усердием. Потом дедушка Харитон зачем-то опять отправился бродить по пашням.
Известно, что в Сибири при изобилии пахотных угодий издавна существовала залежная система землепользования. Для несведущих людей, особенно из молодых, ее объяснить просто: распахав целинный участок степи, сибиряки несколько лет подряд засевали его главным образом пшеницей, а когда он заметно истощался, бросали и брались за другой. На заброшенной пашне в первое же лето откуда ни возьмись вырастала могучая и густая полынь — настоящая степная тайга. Полынь обычно шла в дело: ее очень любят овцы, и зимой, почуяв, что хозяин песет им навильник горчашей травы, они как бешеные бросаются к нему навстречу, грозя сбить его с ног. Полынь росла на пустошах еще года три или четыре, а потом постепенно сменялась разной, не менее могучей и живучей, степной травой; пустошь из мягкой становилась твердой, а лет через двадцать — вновь целиной.
Но не у всех и не всегда была возможность, да и нужда скашивать полынь. Тогда весной ее обычно выжигали, особенно если вдруг требовалось вновь пустить землю под пашню. Теперь это как раз и требовалось в связи с тем, что надо было засеять несколько десятин для пашей семьи.