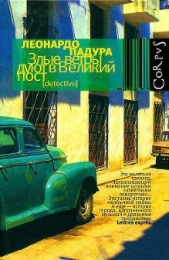Далекие ветры
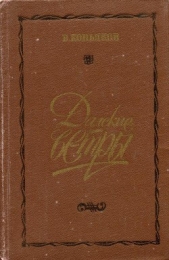
Далекие ветры читать книгу онлайн
Вошедшие в эту книгу новосибирского писателя В. Коньякова три повести («Снегири горят на снегу», «Далекие ветры» и «Димка и Журавлев») объединены темой современной деревни и внутренним родством главных героев, людей творческих, нравственные искания которых изображены автором художественно достоверно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не открываю глаза, и, как неясная грусть, плывет сизое марево кустов, полыхают на снегу снегири, снимаются и исчезают далеко за согрой.
— Хочешь посмотреть, как здесь именины справляют? Нас Кузеванов на субботу приглашал. «Нельзя жить в отрыве от народа».
Юрка улыбался в предвкушении общей радости. Лыжные прогулки его не утомляли.
14 декабря.
У самой двери я задержалась, сказала Юрке:
— Ну как мы сейчас войдем? Слышишь? Пьяные уже все. Не представляю, что я там буду делать.
Юрка, подталкивая меня, открыл дверь. Навстречу хлынул говор.
Я вижу, как качаются головы, как стеклянно блестит стол от стаканов.
— Штрафную им!.. Чтоб не опаздывали… Юрка наш… А Катю сюда. Побольше ей. А то она с нами не знается…
Пока мы вешаем пальто на гвозди, за столом люди раздвигаются, и нас заталкивают в широкую брешь между плечами.
Я не знаю, куда деть руки, так близко подступили ко мне тарелки.
Все ждут нас. Ставят полные стаканы водки. Юрке большой граненый, а мне такой же граненый, только поменьше.
Я чувствую, что начинаю гореть и становиться красной, как все за столом.
— Давай всем, — распоряжается Пропек и поднимается со скамейки.
— Подождем. Выпьют. Потом повторять будем…
Мне накалывают кружочек такого плотного огурца, что я смелею и, не отрываясь от него глазами, поднимаю стакан.
— Ну, что же вы. У нас так нельзя.
— Кума! Ты смотри, кума… Неужели мы ее не заставим?..
Какое это ласковое и женское слово «кума». Улыбчивое, деревенское… В юбке и фартуке. И как оно не вяжется с женой Проньки Кузеванова — Надей.
На маленькой ее голове волосы забраны на затылок. Забраны сильно, до тугого блеска, и закручены шишкой. Эта прическа растянула к вискам ее и так большие глаза.
— Ладно, — сказала она с неторопливым достоинством. — Я вам что-нибудь… Нашего. Самодельного.
Молодая хозяйка была вне общего ажиотажа. Не знаю, какие знаки подала она Проньку, только тот нашел ее у печки и наклонился ухом к ее лицу.
Из опыта своей деревенской жизни я уже предполагала, что оно такое, это «наше самодельное».
Пронек открыл крышку и спустился в подполье.
Вскоре из темноты появился лагун — я уже начинаю усваивать здешнюю терминологию, — лагун — деревянная бочка, приземистая, как усеченный конус.
Пронек стал вытаскивать из отверстия затычку, обернутую в тряпицу. Расшатал ее из стороны в сторону пяткой. Выдернул. Резкая струя хмеля ударила из круглой дырочки.
Пронек наклонил лагун, и запенилась в ведре, зашипела белой шапкой настоянная на сахаре брага.
В этом бочонке брага крепла, бродила. Появлялась в ней шибающая сила — ее омолаживали — всыпали сахар. В бочонке начиналось холодное кипение.
Пронек поставил ведро на стол. Я без насилия справилась с полным стаканом, а потом сидела и с восторгом ужасалась, как затяжелели мои ноги.
— Будя. С копыльев сбивает.
— Поди, год выдерживал?
— Он про нее не знал… Жена прятала.
— Кума, кума…
А я смотрю, как выглядывают с печки мальчишки. Еле различаю свесившиеся босые ноги.
— Пронь, дай передохнуть…
Из другой комнаты выносят аккордеон и подают рябоватому мужчине. Аккордеон огромен, как батарея отопления. От яркой отделки, перламутрового свечения стало светлее за столом. В аккордеоне много и зеркального блеска и регистров. Его много для одного человека.
Мужчина запряг себя ремнями с двух сторон.
— Аккордеон у вас мощный, — сказал Юрка. — Таких в магазине не продают.
— Немецкий. Из самого Берлина.
И он растопырил пальцы на клавишах.
Мне казалось, что из этого чудища сейчас явятся такие же нарядные звуки. А они оказались серыми, как пальцы.
Аккордеонист перекинул ноги через скамейку. Пальцы неуклюже шевелились, они походили на избитые деревянные городки, разложенные на клавишах, но как-то успевали делать свое дело.
Молодая потная женщина, прежде чем вырваться на круг, прочувствовала плечами и грудью всю мелодию и неожиданно пропела поверх голов:
И начала колотить ботинками в пол. Дядя Иван играл громко. Знал он только одну музыкальную фразу и называл это «Подгорная». Если написать формулу его «Подгорной», то она выразилась бы так:
С начала и до конца без модуляций.
Вот уж кто-то еще включился в пляску. Еще… Сорвало всех в один круг, и они затасовались, замельтешили каруселью перед аккордеоном, неутомимо и долго. Аккордеонист с широкими ладонями обладал незаурядной физической силой.
— Уморили… Ой… Ну хватит. Садитесь отдыхать. Садитесь за стол…
И уже было жарко от распаренного здоровья. К людям возвращалось чинное успокоение.
— Еще по одной… Перед пельменями.
Пронька торопило нетерпенье.
— Кипят, — с поспешностью сообщила Надя и улыбалась из другой комнаты.
А ребятишки сидели на печке. Среди них и широконосый двоечник, что не знал ничего о Куликовской битве. Брус мешал ему видеть стол, и он наклонял голову и все хотел разглядеть лицо каждого и боялся остановиться на моем.
Знать бы, как преломляется в этих детских глазах пьяная феерия.
И может быть, вот с такой печки пришел к нам на занятия литературного объединения косноязычный парень. Пришел со стихами:
Эти стихи мы не приняли…
— Мужики, песню!
— Дядя Мить… Какую-нибудь…
Дмитрий Алексеич убрал подальше тарелки, чтобы не мешали локтям. И локтем уже осторожно отодвинул стакан.
Дмитрий Алексеич сосредоточивался. Сосредоточивался молча, не шевелясь. Ждал, чтоб и сомнений ни у кого не было, что может быть еще что-то, кроме песни. Собирался… И это вносило беспокойство.
Голос у Дмитрия Алексеича надтреснутый, приглушен курением.
И вот уж и не поняла я, почему у меня звенит так в ушах от тишины. Оглохли стаканы. И пустота их полна взрывной тишиной.
Песня обрушилась, как стихия… Люди вступали в нее неумело, нестройно — так ветер подступает к лесу. Сначала тронет одну вершину, потом другую и зашумит стволами, расщепленным деревом и сплошными космами кустов.
Голоса пугали разнобоем, неслаженностью. И в сумбурном разгуле их рождалась сила и грация песни.
повторяли люди уже как свою беду, рассказывали о ней и не кричали. Они ее воскрешали, были наедине с нею. И эта стихия горя застарела в них вековой непрощеной обидой, собрала в песне. И они знали боль ее. Боль исконна. Вне времени. И знают они о ней только одни.