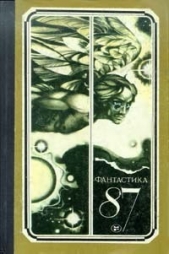Смотрю, слушаю...
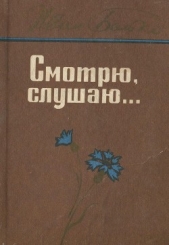
Смотрю, слушаю... читать книгу онлайн
В книгу Ивана Бойко вошли разножанровые произведения — повесть, рассказы, лирические миниатюры. Но объединяет их главная тема — проблемы нравственности. Много внимания писатель уделяет вопросам верности родине, жизненной справедливости, товарищеской чуткости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ой, как нужно мост! Ой, как нужно, любашка ты наш!
— Да-а! — Сказал я. — Это было бы здорово! Вы даже не знаете, что бы это такое было!.. Но вот что. Я сначала все узнаю. Потом будем гуртом действовать. А сейчас нужно выколачивать подстанцию. Так, товарищ инженер?
— Подстанция — сейчас главное! — встрепенувшись, отвечал Михаил Потапович.
29
Жизнь моя, как в журналистскую пору, перешла на колеса: то в Краснодар — доказывать, убеждать, бегать по редакциям; то в Москву — объяснять, представлять, тоже бегать по редакциям; то опять в Отрадную — ловить Гайдая и Юлия, идти в райком, в райисполком; то на воскресший Труболет: как там? «Мост, любашка ты наш, нужон! Ой, как нужон! Без моста мы как на острову, отрезаны. Общественные-т здания подниматся, как на дрожжах, а мы все не решайся: вдруг что! Материал весь заготовил на дом, на огромадный, вот в глазах так и стоит, а все не решайся. И Ляташа, и Князев, и Коваленко — все ждем».
«А колонки пускай ставят на каждом углу! Это мыслимо: столько настроили и — три колонки!».
«А знаешь, где они нам контору делают? На той стороне Урупа! Не там, где люди работают, а в станице, чтоб самим близко, а мы… Это хорошо, если кладка на месте, а если снесет?»
«Да надо, чтобы просеку прорубили. За кладкой. Все пообрываешь на себе, пока доберешься до той конторы. И откуда он взялся, тот лес? То ж ничего не было. Камни одни. Скрозь было видать. (Верно, и я помню: мы загорали на той стороне Урупа, на отрадненской косе, — было видно по петляющей реке до самой Удобной и до хутора Садового, если смотреть в сторону Армавира.) На наших глазах понанесло с гор всякого мусора, понацеплялись карчи, а теперь — тайга, видел? (Я и сам удивлялся: откуда он взялся, такой лес? Едва доберешься до кладки!) Ты уж похлопочи, Ваня: пусть прорубят просеку!»
«Мы и сами прорубим. Только бы разрешили. Все на субботник выйдем, — красивым голосом возражал кузнец-богатырь. — Мы все сами…»
«Оно и мне полезно помахать топориком, Иван Павлович. А то я уже поднакопил кой-чего…»
«А чего ж? Оно всем полезно поразмяться», — красивым голосом соглашался кузнец.
«И о вышке похлопочи, о ретрансляторе. А то мы Пятигорск и Ставрополь смотрим, а Краснодар — только когда через Москву. Сколько они ту вышку будут ставить?!»
И я снова «на колесах» или «на своих двоих». Вот, постоянно горело во мне, говорили, говорили, «закономерный процесс», Труболет отживает свой век. «Гиблое место», говорили. «Яма, дыра, даром, что на горе», — кричал даже Липченок, которого, впрочем, крюком не стащишь с хутора и который теперь рьяно кричит, что лучшего места нет в мире. В районе решение вынесли: переселить труболетовцев, «дать людям лучшую жизнь», «предоставить условия…». А оно — вон оно как оборачивается! «Не вылетел в трубу наш Труболет и никогда не вылетит!» — вот так оборачивается!
Когда бы я ни приезжал в родной район, я никогда не останавливался в гостинице. Я ее обегал с суеверным страхом: «На родине и в… гостинице!» Перебивался то у дяди, то у Артельцевых, то у Максимовича, то у тети Мани Хоменкиной, то у няни, но больше всего у Липченка. Заберусь на сарай, на сено, или на горище, на хату, сквозь пробитую градом крышу которой виден почти весь Млечный Путь, или лягу во дворе, под «звездной люстрой» неба, и думаю, думаю…
30
Вокруг стожарами кружат земляки, нашенские и ненашенские — с Севера, с Волги, с Урала, из Сибири, Армении, Черкесии, Татарии, — отовсюду и теперь все нашенские, все труболетовцы! Звездно блескают мне их поднимающие, зовущие жить и действовать, перебарывать все голоса.
«На Казачьей до сих пор свет не провели! Мы все с лампами, не стыд? В центре и воду провели, и столовая, как дворец, и клуб, и все, а у нас — ничего!»
«Какая там у нас вода? Провели, ничего не скажешь, и колонки на каждом углу, а вода какая? — кричит, надрывая горло и размахивая руками похлеще Пащенчихи, хрипатая Гусиха. — Ты вот попробуй. Муляка это, а не вода! Прямо с Урупа поднимают! Неочищенную!» (А когда-то, да я помню, носили с Урупа. За несколько километров и — ничего! Считали это вполне нормальным!)
«А нам бы хоть такую! — надувается, чтоб перекричать, растолстевшая Шемигониха, перебравшаяся жить на хутор в брошенную хату Телковых. И хитрая же: братову продала на слом, а сама забралась со своим выводком — от разных мужей — к Тельчихе и — ни копейки. Но бог шельму метит: слышно, списываются с Донбасса хозяева с кузнецом Колодезным — придет час, выкурят ее из чужого гнезда! А она кричит, будто чистая перед всем светом: — Мы бы и такой были рады! Но для нас труб не хватает. Далеко ж, куда — через гору! Триста метров всего-то!»
«Так обещали. Чего вам?» — Это кузнец Колодезный.
«Ты умри сегодня, а я завтра. Обещанного три года ждут. Надо добиваться».
«Я не возражаю: добиваться надо. Но и то сказать: грех обижаться. Ведь смотрите: то уже ничего не было, а теперь…»
«Да что там говорить! — грубым, но заметно повеселевшим внутри голосом отозвалась Мошичка: — Прямо не верится! В хате Вари Хачунской, в развалинах, лиса жила — кур туда таскала, а теперь — вот!»
«А кабы еще мост!» — красивым, уверенным, достающим до звезд голосом произнес кузнец Колодезный.
«У, кабы сюда мост, тогда тут жить — и умирать не надо, — слышу певучий голос и кряхтенье приближающегося дяди Пети, а потом — мягкий, приятно хрумнувший картофельный стук опущенного оклунка и опять кряхтенье: дядя, видно, развязывал мешок. — Здравствуйте, девчата. Вот я ему гостинцы принес».
«Ой, да чи у нас картошки нет, Ермолаевич? Вы прямо нас позорите!»
«Це, девчата, отрадненска. С моего огорода. Отрадненска наивкусниша. А с моего огорода — прямо во рту тает».
«Слыхал бы это Иванович. Он бы вас погнал».
«Ну да чи я не знаю, когда принести? Я ж знаю, когда Иванович дежуре. А вот лук, девчата».
«Ой, да чи у нас луку нет? Ермолаевич! Вы уж нас не позорьте!».
«Ну, це ж ему наши хуторяне передали. Что в Отрадной живут. Все вам объясняй! — несердито сердился дядя, трудясь над мешком. — А вот сало. Братильша передала. Вот кроль. Це от меня подарок. Седне ободрал. Вот петух. Мария Харченкина передала. Вот ще кроль. Дегтярь по дороге сунул. Дегтярь сказал, ежли будет мост, он здесь из шлифованного камня дом поставит, на своем месте, уже колышки забил и подписал, чтоб никто не опередил. Слыхали?»
«Слыхали. Чего ж не слыхать?»
«Ну, я пошел».
«Вы бы зашли, Ермолаевич. А то ж обидится».
«Не! — нарочно громко, чтобы я слышал, кричит дядя. — Хай работает! Перебивать не буду! — громко, чтобы я слышал, кричит дядя уже в другом месте, и я слышу шуршание по траве, перевалисто топающие, только его, удаляющиеся шаги. — И мне николы. Так что, до свидания».
«И мы, должно, давайте расходиться, — вздыхает не то Пезиха, не то Величиха, которых я путаю. — А то, может, и нас слышно».
«Пошли. Помогай ему бог…»
И меня со всех сторон стискивает тишина, и из этой тишины и больно и счастливо горят в меня вспоминаемые, сладко забирающие горло голоса земляков. И от этих голосов, от душевности и тепла в них, от шелестов и запахов родины мне становится счастливо до сотрясающих спазм, радостно и вместе с тем тяжело, как без воздуха: «Нет! Что-то не то! Что-то не так! Да! У меня — не так! Не так и не то! Вот и родина со мной, я чувствую ее всей душой, прижимаюсь к ней. Вот и строится моя родина, ее возрождение залечивает мои раны и дает свет душе, а мускулам силу… Но нет мне нигде уюта. Перекашивает душу несложившаяся моя жизнь. Я — как квартирант… То у того, то у другого… Квартира там, в городе, — душа здесь… Сам здесь, часть сердца, часть души там — обнимают мою дочурку, мою Галюню… А когда сам возле нее, возле моей дочери — душа рвется, рекой уносит меня сюда… Нет! Не то! Не то!.. Вот ожил Труболет, родина — это то! Биться за нее, разматывать для нее свои нервы, разрывать для нее свое сердце, не досыпая, не добирая во всем, бить во все колокола, стучать в запертые двери, гореть чувствами земляков — это то! А вот жить раздираемым, точно лоскут облюбованной материи, за который дерутся, ухватясь за края, две несговорчивые бабенки, — не то! Какая-то полуправда».