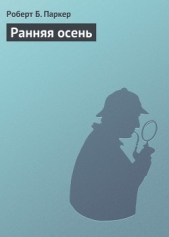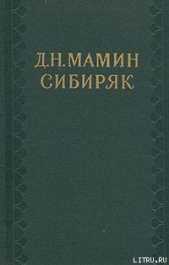Земля и люди. Очерки.

Земля и люди. Очерки. читать книгу онлайн
Очерки свердловских литераторов о сегодняшней деревне, о людях и проблемах среднеуральского Нечерноземья.
Составитель В. Турунтаев
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В севе-79 Таежник занял уже 2450 гектаров, это его семена просил вчера Мельцов на досев. И никакого другого овса больше нет у Манылова. Так закатилась здесь давняя слава Золотого дождя.
А сколько полей в области засеяно уже Таежником, взятым у сажинцев!
В апрельскую распутицу целую неделю добирались с Алтая до «Ударника» два ЗИЛа. Лиссон подписал шоферам все документы, пожелал обратного счастливого пути с десятью тоннами Таежника и богатого урожая на алтайской земле.
В соседней Башкирии вывели короткостебельную рожь Чулпан, и вот уже зеленеет на ста сажинских гектарах диковинный полукарликовый сорт.
«Ударник» сеет элиту, это теперь его функция. И получает тысячи тонн отборных семян первой репродукции, чтобы рассыпались они по землям района, по области, помогали другим поднимать урожаи.
Пшеница Среднеуральская — новый сорт, семена элитные — заняла 162 гектара. Элитный же ячмень Красноуфимский — того больше, почти тысячу.
Но агроном недоволен посевной. Он крепко ругал Сельхозтехнику, которая не выполнила своих обязательств по завозу в Сажино минеральных удобрений, — и пришлось ограничиться рассевом всего 21 тысячи центнеров. Меньше предыдущего года. Недополучили 400 тонн нитрофоски и 300 тонн аммиачной селитры. И лучше не спрашивать у Манылова, на какой урожай рассчитывает он, — буркнет что-то неопределенное. Потому что он, агроном, не смог дать земельке всего, что обещал, а каждый отданный пашне центнер сложного удобрения — это дополнительные пять центнеров зерна.
И сам директор тоже выскажет свои претензии ко всем многочисленным ныне и все продолжающим плодиться вокруг села организациям, которые обязаны помогать ему, но на деле должной ответственности за дела в хозяйствах не несут.
Что такое недоставленные четыреста тонн нитрофоски? Это недобор двух тысяч центнеров семян, недополученные 46 тысяч рублей. Допустим, без этих денег совхоз проживет, но ведь семена-то нужны другим хозяйствам, там тоже хотят видеть высокие намолоты…
Вот почему не было у Манылова оснований говорить, что все у него с севом-79 хорошо.
Конечно, цифр перед директором проходят легионы, но иной раз в отчетах мелькнет, поднимется вдруг такая, что заставит задуматься враз, вспомнить начало — холодный Тюльгаш, где лошадки да мускулы рабочих, главным-то образом женщин; машины — в МТС, они на севе да уборке — за высокую натуроплату, после которой да после хлебопоставок мало что оставалось колхознику на трудодень…
Да что Тюльгаш! В совхозе «Ударник» было вначале всего двадцать шесть тракторов. А сейчас сто одиннадцать; половина — гусеничники, пять красавцев-кировцев. Да более полусотни комбайнов, новейших — это тебе не «Коммунары» на прицепе — да три десятка авто. А всего последняя инвентаризация исчислила суммарную мощь всех имеющихся в хозяйстве двигателей — дизельных, бензиновых и электрических — в двадцать семь тысяч лошадиных сил.
Вот она, новая арифметика, вот для чего создавалась та база, что выросла на пустыре за селом. Почти но сорок лошадиных сил на каждого работника совхоза, а если взять да раскинуть только на рабочих — то более пятидесяти.
И на эту-то силищу записала в ведомостях Екатерина Владимировна полторы сотни живых лошадок, обладающих энергетической мощностью в 117 лошадиных сил.
Везде стальные вожжи, и кони мощны и быстры, и искры летят у них не из-под копыт, а от медных бешено крутящихся коллекторов и из выхлопных труб.
Вот они, кони, стальные лошади, вот она, сила, о которой мечтал Ленин, вот она, мужицкая надежда: не запустует земля, не падет лошадка в борозде от бескормицы, а будет гудеть и тянуть, пахать и сеять, доить коров и нежно отделять семена от плевел не на кружале, а на той самой зернофабрике, что готова снова принять и с Югуза, и с поля, которое забавно называется «за Семеном», и с других массивов золото и янтарь, подаренные землей за труды людские…
Контора совхоза на веселом пригорке, и площадка у входа — нечто вроде террасы, край ее огорожен зеленым заборчиком; плотники постарались и из струганых досок собрали символические изображения колосьев, подчеркнув тем самым еще раз здешнюю любовь к зерну.
Сегодня опять, прежде чем спуститься на дорогу по неширокой и крутой лестнице, он подходил к кустам вереска, что растут возле оградки на террасе. Вот уже третье лето здесь гнездится мухоловка; гнездышко ее как раз против окон директорского кабинета, и каждый раз, проходя мимо, он смотрит: все ли в порядке у птахи. И конторские это знают, оберегают куст, ведь живет птичка почти на виду, людей тут всегда много, машины.
В колючей развилке был серый комочек, а поверх она, малое существо, раскинула крылышки, видимо, уже выпаривает.
Внизу ждала его «Волга».
Эту потрепанную машину достали в таксопарке, сразу сдали в капиталку, и теперь она, как говорят механики, на ходу, но до тех великолепных машин, на которых иногда прикатывают товарищи из области, ей далеким-далеко. Да не шик нужен директору, не блеск. За сегодняшний объезд полей спидометр намотает более сотни километров, ведь надо охватить глазом как бы зараз все завершение, для таких концов «Волга» его очень кстати.
Он всегда был здоров, не знал, что такое серьезная болезнь, и тогда, когда перевалило за шестьдесят.
Но позапрошлым летом, тем самым, которое выхолило урожай, а потом отступило перед мокрой осенью — расхлебывайтесь, мол, сами — тем прошлым летом…
Десятого июня был праздник борозды. Это хороший, добрый праздник, когда сев свален с плеч, можно, да и надо, отдохнуть маленько, потому как все вкалывали без выходных по десять часов, согласно директорскому приказу, а согласно делу — и того дольше, тем более что на носу сенокос; люди собираются вместе на зеленом лугу, чтобы узнать, что и как сделано, кто в героях, посмотреть на своих или заезжих артистов, посостязаться в силе и ловкости, попеть песни и поспорить с друзьями-приятелями, давно же вот так не сиживали.
Николай Михайлович, как обычно, без писаного доклада, по памяти рассказал все о севе; да какая нужна ему бумага, коли все живо и обозримо: и люди, и цифры, и эти самые гектары…
Потом посидел с семьей и с друзьями на лугу, где шумел праздник. Посидели — и хватит. Сели в машину, он — за руль. Легко побежали колеса по знакомой до последнего камушка ему и машине дороге. Впереди означилась рытвинка, он привычно перенес правую ногу с акселератора на педаль тормоза, чтобы придержать бег и перекатить тут мягко.
Но взвыл мотор, машина рванулась и лихо встряхнула всех. Он, конечно, справился с управлением, но понял, что нога не послушалась, не выполнила команду и давнула вместо тормоза газ.
Дома сидел долго в кресле, и все было ощущение, что он отсидел ногу, вот-вот немота ее пройдет. Лег спать, а утром, выбравшись из постели, привычно встал на ноги и рухнул. Подняться сам уже не мог.
Четыре месяца лечили его свои и свердловские врачи; и вот он снова на своем тревожном директорском посту, потому что оставить начатое было никак нельзя.
Нет, это еще не был итог: ни итог жизни, ни итог того, что обязан был сделать он как гражданин и коммунист.
Разве оставишь дело, если хозяйство только-только начало выходить на дорогу, которую он искал и торил? Оно в пути, а путь этот сложен и долог; и почти двадцать пять лет жизни понадобилось ему, сыну белорусского крестьянина и первоуральскому металлургу, чтобы увидеть начало того, что еще не назовешь взлетом, но выходом на взлетную полосу назвать можно.
Обязывали его и новые ордена, полученные за работу уже в «Ударнике».
…Впереди, близ леска, катился голубой тракторенок. Лиссон остановил машину, и колесник встал тоже.
— Иди сюда, — поманил директор из кабины парня, тот спрыгнул на дорогу. — Ты почему катишь по пашне? Может быть, тут другие сеяли?
— Нет, мы…
— Так какого же ты черта… — хотел было отругать парня директор, но сдержался, спросил: — Что сеяли?