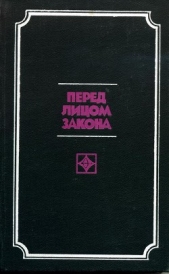Мой знакомый учитель
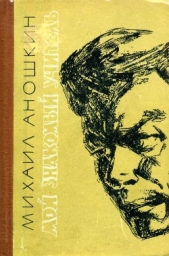
Мой знакомый учитель читать книгу онлайн
В новом сборнике представлены повесть «Мой знакомый учитель» и рассказы.
В повести, составляющей основу книги, рассказывается о нелегкой, но вместе с тем интересной судьбе учителя, попавшего в исключительные обстоятельства. Столь же твердый и несгибаемый, сколь добрый и щедрый душой, он побеждает все превратности судьбы и находит свое место а ряду строителей нового коммунистического общества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Рассказывайте!
— А может, не нужно? — взглянул на Мельникова Владимир Андреевич. — Вроде неудобно…
— Все удобно. Но чтоб рассказ лучше клеился, налей-ка нам, мать, еще по рюмочке. Хозяева дорогие, угощайте и других.
Мельников поднял свою стопку, чокнулся с Глазковым и проникновенно сказал:
— Сто лет жизни тебе, сержант! Жить тебе долго-долго, потому как тебя уже однажды похоронили, а ты выжил.
— Спасибо! — растроганно проговорил Владимир Андреевич. К нему тянулось чокаться сразу несколько рюмок и стопок, его стопка весело позвякивала о другие. Он встретился взглядом с Леной, улыбнулся ей и выпил. Сел.
Мельников двумя пальцами — большим и указательным расправил усики, кашлянул и начал, усаживаясь рядом с Глазковым. И вот что он рассказал…
— Полк наш квартировал недалеко от границы, в Западной Белоруссии. Потрепал нас фашист в первые дни, но и мы ему всыпали порядочно, ого, было дело, верно ведь, сержант? Попятились мы, однако, на восток, сила за фашистами была, целые полчища лезли с танками, бомбами засыпали нас с воздуха. Горько пришлось, чего тут скрывать, многих боевых товарищей потеряли мы в боях. Укрылись в Пинские болота. По болотам, голодные и мокрые, без сна, еле живые добрались к своим. Да, туго было, что и говорить, верно ведь, Володя?
Но это все присказка. В декабре сорок первого стукнули фашиста под Москвой, попятился назад, вроде вздохнули мы свободно, окопались, встали на рубеже, и полный порядок. Стояли таким-то образом до лета сорок второго года, а летом он, гад, снова попер да еще как попер: на Волгоград и Воронеж. Опять туго пришлось нам, сбил он нас с позиций, и мы покатились на восток. Вот тут и начинается сказка. Полк наш поредел, но мы пополнились, и снова в бой. А он, стервец, прет и прет. Бились день, бились два, неделю, крепко нажал на нас гад. И решили наши командиры отходить, ничего не попишешь. Но фашист сел нам на хвост и не слезает. Это уже пахло разгромом полка. Тогда командиры решили оторваться от противника на водном рубеже. Рубеж небольшой, но подступы к нему болотистые, тонкая ниточка связала один берег с другим — шоссе и мост. Надо было взорвать мост, а времени на подготовку взрыва не осталось. Вопрос стоял так: сумеем взорвать мост, значит, спасем полк, не сумеем — все погибнем. Сержанту Володе Глазкову приказали взорвать мост после того, как пройдут по нему последние наши части. Попробуй определи, когда пройдут последние наши части! У сержанта Глазкова хватило терпения и выдержки ждать. Дождался — на мост въехали фашистские танкетки. Тогда он, рискуя жизнью, взорвал мост. Все полетело в воздух. Сержант Глазков спас полк. Но это лишь начало сказки. Потом случилось так, что фашист снова нагнал нас, снова грозила гибель полку. Вызвали нашего командира роты к командиру полка и приказали прикрыть отход. Легко сказать — прикрыть! В роте бойцов осталось мало, в боях безвылазно — устали! Но приказ есть приказ, обсуждению не подлежит: стоять насмерть, дать возможность уйти полку подальше. Снялся полк с позиций и ушел на восток, а мы, маленькая горсточка людей, остались прикрывать отход. Зависело все от нас: выдержим — полк спасется, не выдержим — погибнут тысячи людей.
Утром фашисты принялись молотить нашу оборону из пушек и минометов, потом начали обрабатывать самолетами. Что было, не рассказать — светопреставление: дым, гром, пыль. Ни зги не видно. От грохота из ушей кровь текла. Только окончилось, танки полезли. Три подбили, а два повернули назад. За танками бежали автоматчики во весь рост. С огромным напряжением отбили-таки атаки. Командира роты убило, многих ранило. Приказано было продержаться до полудня, а мы продержались до вечера. Трижды лезли фашисты и трижды получали по зубам. Больше сил не оставалось. Я тогда командование ротой принял. Уходить пора, а как уйдешь, если неприятель на спине сидит? Спрашиваю бойцов: «Кто останется прикрывать отход? Нужны трое-четверо со станковым пулеметом и ручным тоже». Вызвался сержант Глазков и еще двое бойцов. Попрощались с ними: на верную гибель оставались наши друзья, и побрели на восток. Кто мог, сам шел, многих на руках несли — не имели сил идти. Теперь наша жизнь зависела от троих смельчаков, от троих товарищей. Сумеют задержать врагов хотя бы на час — уйдем от верной гибели, не сумеют — значит, всем конец…
Уже далеко отошли, услышали — наши товарищи начали бой, последний свой неравный бой. Я замыкал колонну. Остановился, снял фуражку, мысленно еще раз простился с героями.
Много позднее из документов, захваченных нашими, мы узнали: трое сдержали наступление целого батальона. Встали насмерть. Сами гитлеровцы удивлялись мужеству наших бойцов. Мы знали, что все трое погибли, уж очень силы были неравные. Рассказывали, я даже не помню, кто именно, что больше других держался Глазков. Кончились у него патроны, немцы окружили его, хотели живым взять, но сержант подорвал себя гранатой, чтоб не попасть к фашистам в плен. Мы догнали полк, доложили командиру о геройском подвиге троих. А командование наше вспомнило о других подвигах Глазкова и представило его к Герою. Вот ему и присвоили посмертно это высокое звание, а друзья его награждены орденами Отечественной войны 1 степени — рядовые Синица и Горчаков.
. . . . . . . . . . . . . . .
Владимир Андреевич слушал Мельникова, наклонив голову, и в памяти ярко оживали обрывки того трагического дня.
Момент расставания. Лейтенант Мельников с пятнами копоти на лбу и на щеке, в порванной, словно прогрызенной кем-то, гимнастерке, в сапогах, на которых засохла грязь, пьет из фляжки воду, и кадык, обросший щетиной, судорожно прыгает. Затем рукавом обтирает потрескавшиеся губы и хрипло говорит:
— Пора!
Бойцы поднимаются, у некоторых из плащ-палаток и винтовок сделаны носилки, а в них — тяжелораненые. У большинства забинтованы то руки, то голова, а у двоих гимнастерка распорота у правого рукава, и грудь перевязана нательной рубашкой.
По команде Мельникова все поднялись и медленной грустной процессией, по два в ряд, направились на восток. Мельников протянул Глазкову руку:
— Ну! — обнял его. Так лейтенант попрощался с каждым из троих и пошел не оглядываясь догонять остальных.
Было тихо: ни стрельбы, ни шума моторов. Даже ветерок тревожно притаился, не желая мешать тем, кто уходил. Небо над головой голубое-голубое, без единого облачка и по каким-то непонятным приметам, которые познаются не умом и не глазами, а сердцем, можно было определить, что небо это уже осеннее. Правда, осень еще ранняя, но все-таки осень. Горчаков, молчаливый медвежковатый сибиряк, с оспинами на скулах, присел в окопе на корточки и вытащил кисет. Веселый украинец Синица, который, против обычного, выглядел бледнее и немного растерянно, потянул к кисету руку, пробуя шутить:
— Давай закурим, щоб дома не журились.
Глазков тоже завернул козью ножку. Курили молча, обремененные тяжелыми думами о товарищах, которые только что ушли, о самих себе, главным образом о своем прошлом, о самых незначительных пустяках из него. Владимир вспомнил, например, о том, как они с Семкой Деминым купили пачку папирос (это было в девятом классе) и, выбрав глухой переулок, где не бывало прохожих, впервые закурили. Владимиру тогда дымом ударило в глаза, и из них потекли слезы, а Семку тошнило. Сейчас докуривает в жизни последнюю цигарку. О том, что ждало их через минуту, через час, почему-то не думалось. На душе хотя и тяжело было, но спокойно. Синица поймал муравья, положил его на ладонь и наблюдал за ним, не выпуская из ладони. И чему-то еле заметно улыбался. Горчаков глядел вперед и ничего не видел: ушел в самого себя. Затягивался медленно, в полную грудь, и дым выпускал через нос.
Сколько они так просидели? Трудно сказать. Часов ни у кого не было. Очнулись от того, что над головой прошелестел, будто шелк на ветру, снаряд и разорвался далеко позади. Потом — второй, третий… Три или четыре взорвались возле окопа, и комья земли с горячими ослабевшими осколками упали в окоп. Горчаков бросил цигарку, затоптал ее ботинком, сплюнул и сказал: