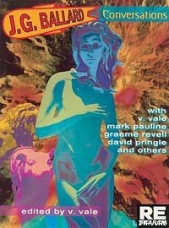Белая горница (сборник)

Белая горница (сборник) читать книгу онлайн
Владимир Личутин по профессии журналист. «Белая горница» — его первая книга. Основу ее составляет одноименная повесть, публиковавшаяся до этого в журнале «Север». В ней рассказывается о сложных взаимоотношениях в поморской деревне на Зимнем берегу Белого моря в конце двадцатых годов.
В сборник вошли также очерки о сегодняшней деревне, литературные портреты талантливых и самобытных людей Севера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А тут жена притащила на чунке — легких санках — дрова, сухие и звонкие от мороза: сосновые полешки, которые горят светло, и жар ровный от них. Привезла бабка и посуду: ладки, горшки, крынки — невзрачные на резкой белизне снега, со следами рук, мутно-желтые на радостном солнечном свете. И Лочехин уже не чувствовал к ним того уважения, какое испытывал несколькими днями раньше, когда сырая глина податливо льнула к рукам. И потому он складывал их в большой зев печи почти безразлично, чтобы только не разбить. Уложил штук сто, не меньше, потом прикрыл сверху черепками, устье заполнил сосновыми полешками и поджег. Единственный дым, пока черный и сажный, поднялся над тимощельскими снегами и полями, над которыми плавали когда-то сорок дымов. Так часа три теплилась печь, и жирный дым пронизывал и прогревал посуду. Дед Лочехин успел и чаю попить, и поспать, но когда пришел снова и накидал дров, то уходить от «завода» было уже нельзя. Он смотрел в печь на поющее пламя, на многоцветные огневые струи и в этих красках ловил свои, нужные оттенки: вот прошел дым, и красные огни пропали, только белый прозрачный и ровный пыл пошел сквозь посуду. И черепки, что навалены сверху грудой, закраснели сначала, потом стали белеть, и пламя очистило гляну, и она на глазах гончара обретала уже новый благородный цвет. Потом мужа сменила жена Елена Афанасьевна, но гончар все не уходил, топтался в снегу подшитыми валенками, и лицо в сумерках было молодым, розовым от огня и радостным. Но все-таки прогнала его бабка, и он ушел по узкой тропинке к дому, маленький, узкоплечий, в побелевшей от лет фуфайке.
4
А на следующее утро опять было солнце. Но уже тихое, предненастное и совсем не желтое. Лочехин вынимал из зева печи посуду, бронзовую и еще теплую.
И это тепло приятно было рукам и сердцу, и чувствовал гончар, как душа его выпрямляется и кровь жарче бежит, и вроде приподнимает его.
Гончар прищуривал выцветший глаз, подносил ладку к уху и стучал сгорбленным пальцем:
— Звенит…
— Раз звенит, значит, не розна, — отвечала Елена Афанасьевна. — Раз звенит, значит, нашему хозяйству не в разор. Ой, сколь и не хорош этот горшок, а, дедко? В нем и суп, и каша скусны будут.
— Это же земелька, природа наша, — каждый раз отзывался однозначно гончар.
…В морозном воздухе, над заснеженными полями плыл чистый и радостный звон.
Так неужели затихнет этот звон? Не так давно в Тимощелье стояло сорок «заводов» — печей, в которые разом «садилось» по сто пятьдесят изделий в каждую. Десятки тысяч горшков и чашек везли по окрестным деревням, и пользовался этот нехитрый товар большим спросом. Да и как было не купить ладку, если в ней рыба жарится «красива и окусна»?
А в соседней деревне резали по дереву, а там — вязали метлы и мастерили тележные колеса. Быть может, ныне, в век атомный, эти вещи безвозвратно ушли из быта?
— Так нет же, — говорит Елена Афанасьевна, — наша посуда на разрыв идет. Посылками везде посылаем. Берут-берут и набраться не могут. А мы ныне что… мы уже старые стали.
Живая деревянная птица
И в пронзительно-радостном свете
привиделась ему большая белая птица.
Оказывается, и береста может прославить. Жил-был в Брин-Наволоке, что под Великим Устюгом, человек, резал кружева на бересте, и столь они были прекрасны, что, когда он умер, сельчане назвали его именем свою деревню. Ныне шемогодская берестяная песня Николая Васильевича Вепрева уникальна: полсотни лет его шкатулкам и блюдам, но не стареют они, разве что узор берестяной стал смуглей чуть и чеканней и при тусклом музейном освещении наполнен изяществом и благородством старой слоновой кости.
Да и кто только не резал тогда на Севере, ибо берестяной добрый товар был известен куда как далеко и брали его нарасхват: в туесе молоко не прокиснет, в берестяной корзине хоть воду носи, шкатулка — любой красавице в утешение. Но ныне увяла шемогодская песня, едва слышна она, и стынут резаки над серийными сувенирными рядами патлатых Ванек и стилизованных лапоточков на безымянный палец, холодеют резаки на щербатых столешнях, и уходят из деревни последние берестянщики.
От Устюга до Селища, «грязной деревни», потому что здесь земля по веснам, как нигде, жидкая и жирная, и картошка оттого всегда урожайная, расстояние «черт мерил-мерил, да веревку сорвал». В общем, сплошная тайга, где березы, «товара бросового», миллионы кубометров. Казалось бы, северным умельцам-берестянщикам работы невпроворот. Однако от Устюга до Архангельска далеко, а беды те же. В редкой деревне есть ныне мастер. Посмотрим, что же он из себя представляет, ну хотя бы вот этот кустарь-одиночка из Селища — Фатьянов Мартын Филиппович, известный своими работами на мировых выставках.
Казалось бы, откуда быть в середине марта снегу, но, видно, год такой взбалмошный, что снег упал очень обильный, так что до Селища в ближайшую неделю попасть трудно. А значит, и старухе, супруге Фатьяновой, нынче гостить еще в Лешуконском. И выходит, еще не один день обряжаться по хозяйству Мартыну Филипповичу.
Он бродит по избе, костистый, в старой ситцевой рубахе, твердые густые волосы мостятся на его голове упрямо. Большими руками он укладывает отмякшую навагу на ладку и, забыв добавить масла, сует рыбу в печь и опять забывает ее на горячих угольях. А потом по обеим комнатам гнездится душная рыбья гарь, и тогда старик суетливо и весело вскакивает и, сунув руку в рукавицу, достает ладку с обгорелыми наважинами и гостеприимно норовит угощение сунуть на стол. И все придвигает к нам — и молоко, и чай, не уставая при этом повторять: «Вы угощайтесь, вы не стесняйтесь», а сам при этом сиротливо пожимает плечами и добавляет с виноватым удивлением: «Ишь-ты, старухи нет, а то бы она… Да она бы, вы знаете…»
Тут приходит золовка, не старая еще женщина, с тихим, чуть подтаявшим изнутри лицом, — знать, что-то болит под сердцем, — и, ласково вглядываясь в деда, как в напроказившего ребенка, предлагает свои услуги: самовар «подживить» или что из еды приготовить. Но обрадованный гостями дед только отмахивается от нее рукой, и та, убедившись в бесполезности своих усилий и постояв с отгорающей улыбкой у печи, уходя, добавляет:
— Он ведь боевой. Вот и внучка, как спать укладываю, сказок не просит, а только: «Бабушка, бабушка, скажи про деда Мартына».
Тихая, как мышь, восьмидесятилетняя сестра его, заскочившая в гости на минутку, пока внуки не хватились, мерно качает луковичного цвета лицом и как бы сама себе нашептывает:
— Он у нас такой, Мартынушко, ничего не боится…
И хозяин открыто радуется хорошим словам: раздвигает в улыбке длинный рот и дует вверх, под крылья большой деревянной птицы, и та мерно плывет на тонкой невидной нити.
— Как живая. Из дерева, а как живая… Чудно, а?
И все мы соглашаемся, что это действительно чудно.
Глухарка из дерева изготовлена с большим изяществом — недаром вещи мастера Мартына ценятся за границей. А Фатьянов, увидев наше любопытство, уже несет из соседней комнаты другую птицу, ту, что на выставку поедет, и тыкает ее нам в нос, и властно и даже небрежно гладит тяжелой ладонью по хрупким деревянным перьям, и все повторяет:
— Просто не просто, но еще лучше могу.
И опять и сестра, и золовка Анна Константиновна в лад качают головами:
— Это уж такой он сотворен.
И заготовитель пушнины крупноскулый темнолицый мужчина тоже качает головой и повторяет:
— Такой он деловой охотник был, и лучше его местные реки и суземье никто не знает.
Мартыну Филипповичу приятно слышать такие похвалы: он как именинник сегодня, по-детски радуется вниманию к его персоне, тем паче, что гости из большого города.
О Фатьянове я наслышан был от местного «рыбнадзора», который однажды застал Мартына Филипповича у верши. Не успел он подойти, как Фатьянов уже сам рукой машет и приглашающе кричит: «А я вас заждался… Вы все не едете, так и рыбки наловился. Вот можете и штраф наложить — эти права вам позволены, — а противиться желания не имею, да и не положено. А пока справки пишете, так я вам и ушку спроворю». Рассказывал все это рыбинспектор с грустноватыми глазами, едва раздвигая в мягкой улыбке уголки губ, а рассказав, удивленно заключил: «Чудак, а хороший. Заждался, говорит, вас… А может, оттого и чудак, что мастер?»


![Моя первая белая клиентка[ Смерть в Панама-Сити. Моя первая белая клиентка. Змея]](/uploads/posts/books/106627/106627.jpg)