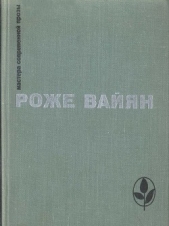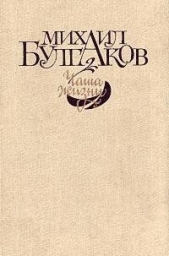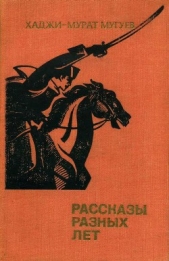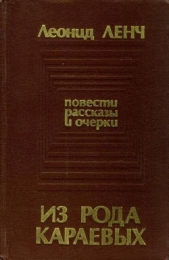Избранное

Избранное читать книгу онлайн
В сборник избранных произведений известного советского писателя М. Е. Кольцова (1898–1942) вошли фельетоны и очерки разных лет, которые создали Кольцову широкую популярность и послужили образцом для множества советских фельетонистов. В последний раздел книги включены отрывки из его «Испанского дневника» — замечательного романа о гражданской войне в Испании, написанного солдатом испанской революции, проникнутого верой в народ, в торжество революционной справедливости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дрожки с правоведами не выносятся из-за угла. Морская и улица Гоголя дремлют в полном бездействии своих старых учреждений.
От моста через Мойку Невский светлеет и оживляется. На солнечной стороне много народу, не протолкаться. Здесь толчея, пожалуй, побольше, чем в старое время. Большая улица подтянула к себе жизнь всего центрального района. Невский стал доступнее, проще, веселей. Трамваи звенят резче, извозчики грохочут громче, женщины улыбаются шире, газетчики кричат звонче. Провинциал, робкий и почтительный, благоговейно замиравший в сутолоке столичного проспекта, сейчас — главное действующее лицо на Невском. Больше всех разгуливает, шумит, толкается и оживляет улицу.
Но, кроме провинциала, проспект имеет постояннейший и твердейший кадр тротуарных завсегдатаев. Этого нет в Москве, может быть потому, что она стала столицей, и это есть в Ленинграде, может быть оттого, что он все-таки стал провинцией. Ровно в час на солнечную сторону проспекта выходит дежурная гуляющая публика — для того чтобы в половине четвертого уйти, очистив панель для второй смены.
Любители тротуарных прогулок движутся стайками по три — пять человек, взявши друг друга под руку, тихим и размеренным шагом. Спешить по Невскому — преступление. Ведь все удовольствие пропадает! Надо шагать медленно, методично оглядываться по сторонам и обсуждать каждого встречного, благо каждый встречный хорошо известен. Если мужчина — быстро зарегистрировать его заработок, последние неудачи по службе, отношения с начальством, попытки перейти в другое учреждение. Если женщина — обсудить ноги, плечи, костюм, с кем живет и с кем собирается жить.
Старый ленинградский житель значительно более «европеизован», чем московский. Хотя и беднее москвича, он удобнее устроился в опустевших квартирах бежавшего дворянства, больше отдает внимания мебели, костюму, театру, кино, иногда даже музеям, альбомам со старинными гравюрами и картинками в золоченых рамах.
Он переживает купленный в магазине госфондов личный интимный письменный стол Николая Второго и личную интимную простыню Александры Федоровны, хотя таких столов и простынь, изъятых из необъятных дворцовых складов, есть буквально тысячи.
Он, в голодные годы подкармливавший профессора из соседней квартиры, по сей день поддерживает «связи с ученым миром» и вместо прежнего свадебного генерала демонстрирует гостям за пасхальным столом ученого хранителя вавилонских древностей.
Он, мелкий ленинградский мещанин, унаследовав функции санкт-петербургской придворной знати, руководит театральными сплетнями, всерьез обсуждает склоки между балеринами и участвует как весомая сила в интригах оперного Олимпа. Ушедшие на покой балетмейстеры когдатошних императорских театров обучают его «западным танцам», и, увлеченная бурным потоком мещанской «цивилизации», даже рабочая молодежь иногда отдает половину субботней получки за право в поте лица и ног своих постигать трудную, но приятную науку чарльстона.
Эта карикатурно-европейская толпа, постукивая сосновыми тросточками («настоящее черное дерево, подарок царя Распутину»), поблескивая искусственным шелком чулок («настоящие парижские, с парохода контрабанда»), устрашая роговыми очками на здоровых глазах («мне из Лондона профессор по почте прописал»), струится по вытертому каменному руслу проспекта, бурля мелкими водоворотами на перекрестках и задерживаясь у витрин модных фотографов, где счетоводы и завхозы, снятые в демонических позах, вывешены в головокружительном соседстве драматических артистов и наркомов.
Для этой публики на Невском развелись и специальные кафе: маленькие, но ужасно аристократические, увешанные картинами и гобеленами уголки, где сами хозяева, из бывших важных людей, разносят шоколад в старинных фарфоровых чашечках между столиков, покрытых дорогими домашними скатертями.
Нынешний Невский стал улицей кофеен и издательств, — все лучшие магазинные помещения и витрины заняты конторами московских и местных газет и журналов.
Трудно пройти проспект, не подписавшись на что-нибудь такое-этакое в рассрочку в коленкоровых переплетах с золотым тиснением и суперобложками; чистенькие, широкие, мраморные ступеньки гостеприимно расстилаются перед настежь открытыми зеркальными дверями. После таких соблазнов сознательному гражданину и не придет в голову покупать себе какую-нибудь буржуазную принадлежность вроде штанов, благо на дверях Ленинградодежды замок и перед замком — хвост человек на двести.
Следующий квартал можно теперь назвать кварталом Европейской гостиницы. Громадное здание раньше молчаливо смотрелось фасадом на Михайловскую улицу. Сейчас оно, найдя для себя лозунг сообразно новым временам, повернулось лицом к Невскому. «Европейская» теперь — пуп, средоточие, командная высота Невского проспекта. Это громадное предприятие вместе с «Асторией» ухитряется отлично обслуживать и Москву.
Каждое утро скорые поезда привозят десятки странноватых пассажиров, почти исключительно мужчин, поодиночке и по двое-трое, без всякого багажа, с одними легонькими портфелями под мышкой. Приезжие выбирают себе номера с неторопливым, внимательным благодушием, какое бывает у человека, пришедшего в конце недели всласть попариться в бане первого класса.
Задавленный московской учрежденческой сутолокой, квартирной теснотой и склоками, командировочный гость медлительно смакует здесь радости бытия. Он нескончаемо стрижется и бреется в отдельной парикмахерской, затем победительно расхаживает по огромному номеру, щупает сохранившуюся дорогую мебель, пробует краны с проведенной горячей водой. Он и обедает на крыше той же «Европейской» (или в «Астории»), дружелюбно совещается с внимательным официантом в белоснежном костюме и охотно присоединяет к повестке обеда «текущие дела» в хрустальном графинчике. Музыка баюкает мысли, и московский гость, видя сквозь галерейку крыши лишь небесные просторы, чувствует себя на палубе океанского парохода, командированным в Южную Америку для миллионных закупок. Качка и иногда морская болезнь от «текущих дел» довершают океанское впечатление.
Надо бы пойти по делам, но дела сами вплывают в номер. Подотчетные ленинградцы из представительств и отделений спешат свидетельствовать товарищу из центра свое глубочайшее внимание. Сухие официальные доклады журчат совсем иначе, дружески здесь, в отеле. Они кончаются ужином опять-таки на той же крыше, преображенной разноцветными фонариками и вечерним многолюдством. Ответственный гость в окружении местных друзей разнеженно наблюдает с фоксом, румбой, джазом и вполне соответствующим обществом дам.
Потому так часто в Москве член правления треста с хмурым видом уведомляет председателя:
— Я, Андрей Егорыч, думаю в субботу в Ленинград смотаться, нашу областную контору посмотреть. За ними как-никак глаз нужен. В воскресенье с ними позаймусь, рабочий день не пропадет, и будем иметь представление о том, что у них там делается.
Председатель кивнет головой: попробовал бы он не кивать, если сам два раза в месяц ездит на выходной день посмотреть, что у них там делается.
Поздней белой ночью за Аничковым мостом Невский очень стар, гораздо старше своих двухсот лет, он старше и дряхлее десятивековых московских площадей. Он, видимо, просто умер в прежнем своем назначении, умер безвозвратно, как бы уютно ни светились абажурчики в новых кофейнях, как бы важно ни разгуливала нэповская публика по солнечной стороне.
Невский в старом своем назначении отошел, как отходит и понемногу теряет свое значение так называемая главная улица в больших и малых буржуазных городах.
Бесславно затихает Пера, главная улица европейского квартала Стамбула, пышная, богатая, насыщенная сокровищами и людьми, воспетая Пьером Лоти и Клодом Фаррером «Золотая Пера».
Эта улица была главной артерией столицы много лет, пока Турция была «больным человеком», пока в Константинополе хозяйничали иностранные торгаши рука об руку с иностранными офицерами. Мировая война, доведя Турцию до последней ступени несчастий и унижений, встрепенула турецкий народ, открыла в нем новые силы и новых людей для победной борьбы с чужими угнетателями. Революционная Турция променяла громадный пышный Стамбул на маленькую Ангору[3] — суровый военный городок в горах, в сердце страны. Стамбул перестал быть столицей, он много потерял как порт, ему предоставлено развиваться дальше только как городу культуры, науки. И вот — пустует шумная Пера, только русские эмигрантки продаются в безлюдных ресторанах, греческие нэпачи озлобленно смотрят из дверей прогорающих магазинов на безденежных гуляющих франтов. Иностранные дипломаты, проклиная затею кемалистов, оставляют просторные особняки посольств для тесных каморок в скромных, но переполненных ангорских домишках.