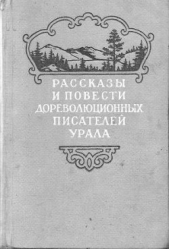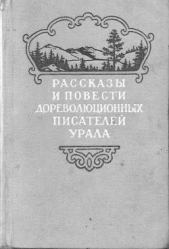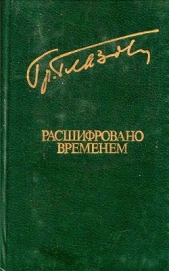Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков
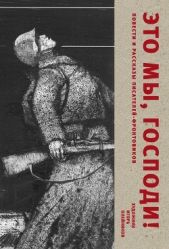
Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков читать книгу онлайн
Книга посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все авторы произведений — писатели-фронтовики: Василь Быков, Константин Воробьев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Виктор Астафьев. Повести и рассказы участников войны — о человеке один на один со смертью, когда даже неверующие души вспоминают своего Творца и взывают к Нему. Это дошедшие до нас голоса солдат из окопов, их личный фронтовой опыт.
Для этой книги известный художник Игорь Олейников создал 35 уникальных рисунков. Книга для взрослых с иллюстрациями — прекрасный подарок всем любителям художественной литературы. И прежде всего — подарок для всех, кто хочет знать и не забывать правду о войне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всплыли и другие боевые моменты. И ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение.
«Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться!» — решил он, сидя на куче угля…
Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг поднявшийся шум и движение среди пленных.
— Немцы бомбить идут! — крикнул кто-то в дальнем углу. — Прячь, братва, что у кого есть!..
Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полоску света, идущую от лестницы. Там стояла группа немцев, видимо, только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запрыгали по серым, нелепым от распущенных хлястиков шинелям, пилоткам, шапкам.
— Комагерр! (Ко мне!) — зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея.
— Мантиль ап! Ап, шнелль! (Шинель снимай! Снимай, быстрей!)
Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки.
— Вас ист дас? О, гут, прима! (Что такое? О, хорошо, красиво!) — осклабился он, рассматривая массивный серебряный портсигар. Это был подарок от друзей ко дню двадцатилетия Сергея. Затейливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова: «Пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой, и бравший папиросу из портсигара непременно прочитывал это назидание.
Сергей грустным взглядом проследил, как портсигар утонул в кармане зеленых измызганных брюк.
— Это же память!
— Вас бамат?
— Память, знаешь, скотина?!
В полутьме немец видел, как лицо военнопленного покрылось меловым налетом, и, рванув пистолет, со страшной силой опустил его на висок Сергея…
Глава вторая
Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев.
Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани.
Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя все, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника.
Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти.
Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы.
Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто.
Шли обозленные на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях… В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!
Убивали за поднятый окурок на дороге.
Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.
Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе.
Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.
Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями — из пулеметов и пистолетов-автоматов! Трудно было заблудиться немецкому солдату, возвращающемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженые головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук — лагерям военнопленных, да не дошли, полегли на пути в мягкой постели родной страны — в снегу, и молчаливо и грозно шлют проклятия убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещая мстить, мстить, мстить!..
…Сергей открыл глаза и встретился ими с волосяной рыжей глыбой, свисающей к его подбородку.
«Где это я?» — подумал он.
Вдруг щетина зашевелилась, и мягкий гортанный голос заставил его шире открыть опухшие веки. «Да это же борода!» — обрадовался он, встретившись с чуть насмешливым взглядом ее обладателя.
— Эх ты, мил человек, горяч, нечего сказать! Чай, запамятовал, где ты? — урчал бородач, наклоняясь над Сергеем. — Портсигар пожалел… велика важность! Убить германец ить мог тебя, вот оно как…
Голос бородача напомнил что-то знакомое, и, силясь припомнить, где он его слышал, Сергей закрыл глаза.
— Полежи, я схожу погляжу — снег растаял ли. Попьешь водички…
«Да Горький так говорил! В кинокартине „Ленин в 1918 году“», — вспомнил Сергей.
— Как зовут-то тебя, мил человек? — подавая Сергею консервную банку с полурастаявшим снегом, спрашивал бородач.
— Серегой, стало быть…
— Ну, добре, а меня Хведором, мил человек, Никифорычем, значит… Ярославский я, из Данилова, может, слыхал?
Остаток дня и ночь Сергей провел в разговорах с Никифорычем. Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравоучений заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что Никифорыч неизмеримо практичнее, опытнее его; крепче стоит на земле чуть кривыми мускулистыми ногами, многое видел и знает и многое имеет «себе на уме». Не удивился поэтому Сергей, когда Никифорыч, подтащив вещевой мешок, долго рылся в белье, портянках, старых рукавицах, пока не нашел белую баночку с какой-то мазью.
— Помогает, слышь, крепко при побоях, — объяснил он, зачерпнув черным мизинцем солидную дозу снадобья.
Сергей не возражал. «Значит, верно, помогает при побоях», — решил он и дал Никифорычу вымазать вздувшийся разбитый висок. Когда Сергей отказался от предложенного сухаря, Никифорыч вдруг урезонил его:
— Ты, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе… — А помолчав, добавил: — Помогать будем друг другу. Это хорошо, слышь…
На второй день ранним утром всех пленных выгнали из котельной во двор завода. Построенные по пять, тихо двинулись по Волоколамскому тракту, окруженные сильным конвоем. Сергей и Никифорыч шли в первой пятерке. Колючий, пронизывающий ветер дул в лицо, заставлял в комок сжиматься исхудавшее тело.
— Лос! Лос! (Давай! Давай!) — торопили конвойные, пытаясь ускорить процессию.
Не успели отойти и трех километров от города, как сзади начали раздаваться торопливые хлопки выстрелов — то немцы пристреливали отстающих раненых. Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от дороги. У Сергея тупо и непрестанно болело бедро, пораженное осколком… Контуженная левая часть лица часто подергивалась дикой гримасой. С каждым шагом боль в бедре все усиливалась.
— Держись крепче, Серег, не то убьют! — посоветовал Никифорыч. — Есть у меня три сухаря, подкрепимся малость, — продолжал он, невозмутимо шагая вперед.
Чем дальше шли, тем больше становилось убитых. Нельзя отстать от своей пятерки. На место выбывшего сразу становился кто-нибудь другой, место терялось, а вышедшего на один шаг из строя немедленно скашивала пуля конвоира. Люди шли молча, дико блуждая бессмысленными взорами по заснеженным полям с чернеющими на них пятнами лесов.
— Братцы, ну как жа оправиться? — взмолился вдруг кто-то из пленных.
— Ай вчера от грудей? Снимай штаны — и дуй! — поучали его из строя.
— Не умею, родненькие, на ходу, я жа не жеребец…
— Пройдешь верст пять и сумеешь, — обещали несчастному.
— Ишь, чего захотел! Знать, не голодный…
— Черт плюгавый!..
Плохо быть одному сытому среди сотни голодных. Его не любят, презирают. Этот человек чужой, раз ему не знаком удел всех.
К полудню впереди показалась небольшая деревенька, расположенная на шоссе.
— Журавель, ребята, виден, попьем водички!
— Эти напоят… захлебнешься…
— Ан, слава Богу, третью недельку живу в плену и ничего, пью… Самому нужно быть хорошему, тогда и камраты будут хороши…
— Штоб твои дети всю жизнь так пили, как ты тут!
— Ишь, сука паршивая, камрата заимел…
Лениво переругиваясь, пленные вошли в деревню. На крыльце каждого домика толпились женщины и дети, торопливо выискивая глазами в толпе пленных знакомых или родных.
— Тетя, вынеси хоть картошку сырую…