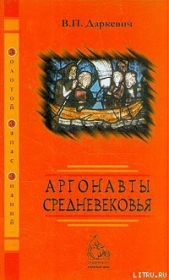Наука дальних странствий

Наука дальних странствий читать книгу онлайн
Книга Ю. Нагибина посвящена делам и заботам, нравственным поискам, радостям и печалям людей сегодняшнего мира в нашей стране и за рубежом. Автор продолжает разрабатывать свои постоянные темы: художник и время, истоки творчества, судьба военного поколения…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А страница, отведенная Борису С., до сих пор пуста. И я догадываюсь, почему так случилось. Рассказать о нем очень трудно. Он учился в нашей школе с первого по девятый класс, затем перешел в артиллерийскую спецшколу. Он жил в том же доме, где жили Павел Г. и Сарра М., где жило еще много наших ребят, в большом доме бывших политкаторжан, написать о нем должен был бы кто-то из его соседей. Став артиллерийским учеником, Борис изредка захаживал в свою старую школу, скромно гордясь щеголеватой военной формой, но связи наши ослабли, другое дело — ребята с одного двора, с ними он оставался по-прежнему близок. Но вот поэтому-то им особенно тяжело писать о нем, о горестной судьбе смелого и строгого юноши, в котором страна потеряла крупного военачальника, потеряла из-за мешка картошки.
Борис был прирожденным военным, командиром, он выбрал путь не просто по склонности, а по страсти, по всей душевной организации. Он мечтал о подвигах, о славе и начал готовиться к бою с четвертого класса. Он закалял свое тело: круглый год, в любую погоду ходил в рубашке из туальденора — джинсовой ткани нашего детства, не признавая ни пальто, ни даже лыжной курточки. Он тренировал себя походами — пешком, на лыжах, на велосипеде, дальними, трудными маршами сквозь осенний дождь и зимнюю вьюжную стужу. Спал на жестком, обливался ледяной водой, мог сутками не есть и не пить, читал книги только о войне и, крепкий, как кленовый свиль, был добр и великодушен, никого пальцем не тронул, потому что обладал душой воина, а не задиры-драчуна.
Уже в дни войны, накануне получения первого командирского звания, ночью во время дежурства Бориса по части со склада украли мешок картошки. Суров закон военного времени. Борис был судим и осужден с заменой тюремного срока штрафным батальоном. Свой проступок он должен был искупить кровью. Он искупил его смертью. Погиб Борис в первом же бою. На его воинской чести нет пятна Но разве это утешение?
Им могло бы гордиться Отечество, но гордимся лишь мы, его школьные друзья, ибо знаем, на что он был способен. И смертно жалеем, и ком в горле мешает вырваться словам о нем. Но они будут, эти слова…
Меня властно манят ушедшие, хотя их, по счастью, куда меньше тех, кто продолжает дело жизни. Наверное, это правильно и справедливо, «ведь мертвые уже не мертвые, когда живые благоговейно воскрешают их образ». И жаль, что у меня так мало сведений, чтобы достойно воссоздать образ погибших на войне. Я и о живых знаю далеко не все, но не унижу ни их, ни себя «писательскими» расспросами о том, что мне осталось скрытым в их душах и жизненных обстоятельствах. Все это должно прийти ко мне из прошлого и настоящего, из воздуха наших встреч, из беглых слов, улыбок, вспышек доверительности, морщин, уж и не знаю — из чего еще узнаешь так много о близких людях, не подвергая их ни следовательскому, ни журналистскому нажиму; из всего движения жизни приходит по крупицам такое знание и складывается либо в завершенный, либо в приблизительный образ. Пусть лучше останутся пробелы в этих записях, но пополнять их искусственно я не стану.
Пока что я просто перелистываю альбом, читаю скупые строчки, вглядываюсь в лица тех, кто только что покинул мой дом, кто уехал на большом автобусе, раздобытом, конечно, Мусиком, всесильным, когда дело касается дружбы. Достать автобус в предолимпийские дни оказалось непосильным для наших Героев, лауреатов, профессоров, это сделал в два счета скромный начальник цеха.
Они уехали, оставив почти все вино невыпитым, — нам не нужно стимуляторов, когда мы вместе, и, хотя среди нас имеются любители заздравного кубка, даже им хочется хмелеть не от помоев алкоголя, а «от слез, от песен, от любви». Остались цветы, легкий беспорядок, который хочется сохранить как последнюю память, помада на краешке чашек, рассыпанные по дивану пластинки с мелодиями тридцатых годов, под которые мы когда-то учились танцевать, удивительно неуклюжие и косолапые в отличие от нынешних гонцов, рождающихся с твистом и шейком в крови, запах скромных духов и какой-то печальный воздух, и печальный, уже ненужный, по всему дому свет, и этот альбом в красном коленкоровом переплете.
Краткие записи помогают уловить то общее в нашей участи, о чем я уже говорил и что роднит выпускников 1938 года Чистопрудной школы с выпускниками всех других школ страны, со всем поколением, делает их судьбу частицей судьбы народной. Но индивидуальное, создающее неповторимость лица, куда труднее вычитать в застенчиво-скупых строчках, большей частью просто невозможно, но когда что-то знаешь, то, ухватившись за кончик нитки, можно распутать целый клубок.
Для меня полной неожиданностью оказалось признание Иры М.: «К сожалению, надо сказать, что в детстве у меня дома, в семье было много неблагополучного..» До чего же гордо-скрытная натура была у стройной, сдержанно-приветливой, легко и ярко красневшей девушки, если она не позволила никому заглянуть себе за плечи! Ира не рвалась к школьной премудрости, но из самолюбия заставляла себя хорошо учиться. Теперь я понимаю, чего это ей стоило. Наверное, оттого в школьных стенах в ней чувствовалась некоторая напряженность, исчезавшая напрочь на Чистопрудном катке. Тут она мгновенно преображалась. У нас многие девчонки отлично бегали на коньках, но куда им до Иры! У нее был шаг, постав и дыхание прирожденного скорохода Она стелилась по льду, с горящими глазами отмахивала круг за кругом машистым шагом красивых сильных ног, глубоко и ровно дыша высокой грудью. Отваливалась с души вся тяжесть, жизнь искрилась и пела, как облитый электрическим светом лед под остриями ее коньков.
В свободу, открывшуюся за дверями школы, она вкатилась, будто с мощного разбега по Чистопрудному льду: в 1938 году поступила в педагогический институт, в 1939-м вышла замуж, в 1940-м родила сына. Что ни год, то радость. А дальше война — и все пошло вкривь и вкось. Эвакуация оборвала учебу, муж вернулся с фронта контуженый, с осколком в легких. Начались годы мучительной борьбы за жизнь, здоровье и будущее мужа. О себе она напрочь забыла, но мужа спасла. Он выздоровел, окреп, получил гражданское образование, начал работать и быстро пошел в гору. Пора было Ире и собой заняться, но родилась дочь, и надежды на продолжение учебы в институте вновь пришлось отложить. Все же ей повезло больше, чем Джуду-незаметному, до могилы мечтавшему о высшем образовании: через двадцать лет после окончания школы. Ира получила институтский диплом. Начала жадно работать: преподавала, вела аспирантов, переводила техническую литературу. Ну и, конечно, воспитывала детей. Вновь ощутила она под ногами забытую радость скользящей, несущей вперед поверхности. И тут ей нанес удар человек, для которого она стольким пожертвовала. Он знал ее терпеливую доброту, самоотверженность, преданность семье и думал, что ему все сойдет с рук. Он забыл, что жена его была еще и гордым человеком. Ира указала ему на дверь. Осталась работа, остались дети, оба получили высшее образование. Теперь сын — начальник отдела в научно-исследовательском институте, дочь — старший инженер. И остались у Иры мы. Вот что она пишет:
«Наши школьные встречи приносят мне много радости, дают силу, уверенность в себе, в делах, в жизни, хотя помощи я ни от кого не просила. Жизнь сложилась трудная, но сознание, что рядом есть школьные друзья, всегда поддерживает, внутренне собирает».
Дорогие слова! И как прекрасно, что, хоть в трещинах и буграх был лед, не сбился твердый, машистый шаг чистопрудной конькобежки!..
Еще труднее судьба выпала Лиде Ч. Она даже не смогла приехать на нашу встречу, но никто не обмолвился в ее адрес и словом упрека. И один из первых тостов мы подняли за ее здоровье — худенькой, хрупкой, с прозрачными, исколотыми иглой пальцами великанши духа.
Лишь однажды кроткая, бережная к друзьям Лида повысила голос. «Не смейте меня жалеть!» — прикрикнула она на Таню Л, перебравшую в добрых чувствах. Пусть лучше Лида сама скажет о себе: