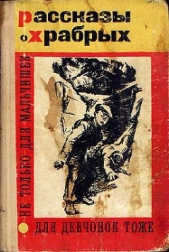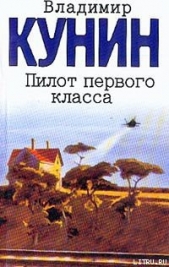Три мешка сорной пшеницы
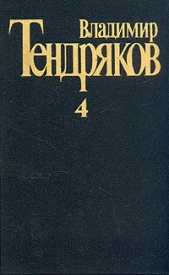
Три мешка сорной пшеницы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Адриан Фомич, только что вернувшийся с молотьбы, сидел за столом с умытым, спокойным лицом, сивая бородка лопаточкой еще мокра после умывания и аккуратно расчесана гребнем. Он хлебал щи и выговаривал Женьке:
— -Ты зря это, парень, на рожон прешь. Добро бы — своя корчажка вдребезги, да моя квашня цела, а то ведь пользы–то никакой.
— Имеет право. Корчажку свою в огонь сую! — Кирилл в нательной рубахе, в темно–синих галифе, заправленных в шерстяные носки, вышагивал от стола к порогу, и половицы постанывали под его плотным телом.
Адриан Фомич с досадою повел плечами на его слова:
— Ты небось свою корчажку в горячее не сунешь.
Кирилл густо крякнул.
— Я тут гость нынче, а он при власти ходит. Позиции наши не одинаковы. Вот я к себе приеду, там я хоть и не в больших чинах, но фигура. Доступ имею. Я там нажму на педали. Уж будьте уверены.
— Ты, Евген, — продолжал старик, — еще ведь не жил, только на первую приступочку ногу заносишь. И на–ко, на первом шагу тебя пихнут. А за–ради чего? Да сторониться не захотел, напролом лез. Напролом–то, парень, не ездют, любая дорога с изгибочками.
— А ежели сторониться в привычку войдет? — хмуро спросил Женька.
— Аль только привычкой человек живет, не рассудком? Рассуди прежде — есть ли нужда прямиком лезть? Не к робости да оглядке зову — к пониманию. Силен медведь, но и его свалить можно при сноровке, жидка тень, да ее не сковырнешь со стены. С тенями не воюй. Какая мне польза от того, что тебя гонять станут?
— Оспо–ди! Оспо–ди, что деется!
— Не–ет, отец, не–ет — возмущает! — опять загудел Кирилл. — Перегибчик с тобой сотворили. Ежели б это зерно у тебя в закутке нашли, тогда и я слова бы не сказал, — хоть и отец ты мне, но ответь по всей строгости!
Светила лампа сквозь туманное, со ржавой заплатой стекло. Всхлипывала и сморкалась в конец платка Евдокия. Торчали с полатей мочальные космы мальчишки. Маячили над печью черные глазницы старухи. Беда движется к этому дому, она близко, она рядом.
Женька гнется на лавке и думает. Адриан Фомич пытается сейчас решать за него. Вчера, пожалуй, и послушался бы его. Сегодня стариковская доброта настораживает. Чуется в ней еще невнятная, еще не ущупанная фальшь.
— Сколько тебе лет, Фомич? — спросил Женька.
— Э–э, милый, под метку дотягиваю. Через три годика семь десятков стукнет.
— А сколько тебе дадут — год, три, пять, может?
— Это уж все едино. Даже год… Разве выдюжу?
Евдокия, тихо давившаяся от слез, пропричитала в голос:
— Кормилец ты наш! Не свидимся!…
И Женька вскинулся:
— О жизни и смерти вопрос! Человек гибнет, а ты подпишись! Если б ты сделал такое — простил бы себе? Нет, всю бы жизнь себя клял. На клятую жизнь толкаешь!
Адриан Фомич ничего не ответил. Сдавленно подвывала у шестка Евдокия.
— Что деется! Ос–по–ди! — глухой стон с печи.
Кирилл остановился посреди избы, громадный, всклокоченный, растерянный.
Адриан Фомич отодвинул от себя миску с недоеденными щами, поник над столом лицом.
— Да–а, — выдавил он. — Совесть зла… С ней не поладь — заест. Что ж, может, ты прав, парень.
Женька не поддался, решил по–своему. Кистерев был бы им доволен сейчас. Горькая гордость от ненужной победы.
А утром, до рассвета, при стынущих звездах, Адриан Фомич, как всегда, побежал сзывать баб на работу. Оставался недомолоченным последний омет…
18
И вот… Возле крыльца лошадь, впряженная в широкие розвальни, щедро набитые сеном.
Евдокия, тихонько подвывая, собирала старика в дорогу. Долгую ли, короткую? С возвратом или без возврата? Ни участковый Уткин, ни кто другой ответить на это не мог.
Участковый сидел на лавке, сняв шапку, в полушубке, громоздкий и смирный, как ручной медведь, вытирал пот. На печи, в пещерном мраке, словно в бреду, металась старуха:
— Оспо–ди праведный! На кого кару наводишь?
И выла вполголоса слепо тычущаяся по избе Евдокия, глядел с полатей, как сурок из норы, мальчишка. Кирилл в гимнастерке распояской, в синих галифе, заправленных в шерстяные носки, нечесаный, неумытый, еще днем опроставший бутылку, крикнул:
— Дусь! На стол подай! Знаешь, где у меня стоит… И–эх! Проводы тебе, отец, вышли. Все садись к столу! И ты, служивый, подваливай.
— Не имею права, — сокрушенно ответил Уткин. — При исполнении обязанностей нахожусь. А вы — давайте. Никак не тороплю. Сколько нужно, столько подожду.
Евдокия сунула на стол бутылку самогона, снова с подвываниями заходила кругами по избе.
Женька за стол сесть отказался. Адриан Фомич сел:
— Щец домашних напоследки похлебаю. И что уж, плесни, Кирюха, для согрева. Только малую…
Адриан Фомич не спеша, сквозь зубы, процедил стопочку, принялся есть свои еще вчерашние щи, не спеша, с той проникновенной, вдумчивой аккуратностью, с какой едят только пожилые крестьяне, больше других знающие, какова ценность пищи. Кирилл опрокинул в себя стакан, крякнул. Он был бледен, россыпь веснушек выступила на его тесаных скулах.
— Вот думал, отец, сегодня… Весь день думал: кого я на свете люблю, кто мил?… Уважаю многих, а люб–то мне ты один. На всем свете — ты только!
— Бедновато живешь, — ответил Адриан Фомич.
— Я бедноват, а ты богат лишка, батя. За то и страдаешь — за лишнее богатство души. Встречного и поперечного готов миловать и приголубливать. А то ли время для милованья? Ныне полмира кровью обливается. Раньше–то говорили: кто не с нами, тот наш враг! А теперь враги нам даже те, кто с нами. Вон Англия и Америка — союзнички, пока с нами, но до первого поворота. В такое время очень–то жалостливым быть нельзя: рано или поздно — ожжешься.
— Оспо–ди! Меня накажи, оспо–ди! Меня — нестоящую! Зачем, осподи, добрых людей губишь?
— Вот и ее, батя, ты себе на шею повесил, а зачем? Какая нужда в том?
— Ну, хватя пустое болтать! — оборвал Адриан Фомич, отстраняясь от стола. — Поговорим о деле. Тут Дуська остается с парнем. Меня любишь — полюби–ка их!
— Отец! Евдокия! Слушай!… В жизнь не оставлю! Аттестат переведу. Приезжать буду, следить, чтоб зазря не обижали. Родные вы мне али не родные? От исполнения долгу Кирилл Глущев никогда не уклонялся!
— И ее тоже! — дернул бородкой в сторону печи Адриан Фомич.
— Ее?… — Кирилл потряс отяжелевшей головой и неожиданно согласился: — А пусть… Ежели Дуська не прогонит.
— В жизнь не прогоню, — откликнулась Евдокия со стороны.
— Тогда — пусть…
— Ос–по–ди! Прибери меня, оспо–ди! Хоть энту–то милость сделай, коль на другое тя не хватает!
— Дотлевай, старая, хоть это и на чужом загорбке… Но пусть!
— Она всю жизнь на своем загорбке других возила, — напомнил старик.
Адриан Фомич встал, высокий, плоский, с обычным покойным бескровным лицом, повернулся в угол, к темным забытым иконам, перекрестился.
— Все ли изготовила, Евдокия?
— Ох, готово, родной! Ох, кровинушка наша горькая! На кого ты нас покидаешь, лю–у–убый!
Старик повернулся к участковому Уткину:
— Что, служивый, вези, коли так.
Лошадь застоялась, била копытом в мерзлую землю.
На отдалении толпились бабы и детишки, должно быть, все население деревни Княжицы от мала до стара: вздохи, горькое сморкание, сдавленный шепот. Среди баб, сам как баба — в рваном балахоне распояской, в платочке по волосам, только дико бородат — странник Митрофан, держит в очугуневших от холода руках батожок, глядит недвижными, пустыми глазами. Где–то живет, чем–то кормится, чьей–то пользуется добротой, забыл, видать, о кладбище, вот пришел проводить нелюбимого Адриана Фомича…
Адриан Фомич в лохматой собачьей шапке, туго подпоясанный кушаком, — словно собрался в поле, только котомка в руках. Кирилл, обтянутый ремнями поверх шинели, но без синей фуражки, простоволосый. Плачущая Евдокия, мальчишка–внук в больших валенках, участковый Уткин, смиренно–неуклюжий и нагольном полушубке, и Женька в наспех накинутой шинели, с палкой.