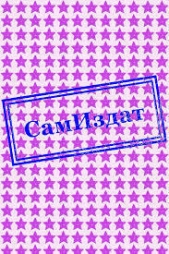...И вся жизнь (Повести)
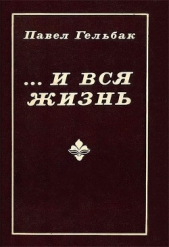
...И вся жизнь (Повести) читать книгу онлайн
В данное издание вошли повести писателя Павла Гельбака.
СОДЕРЖАНИЕ:
Ночи бессонные. Повесть.
Дни беспокойные. Повесть.
Отдых на море. Повесть.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы это сделаем, — пообещал я, прощаясь.
Однако обещание свое выполнить не мог. Урюпин исчез.
Секретарша сказала:
— Виктор Антонович на попутной машине уехал в Минск, а вам просил передать письмо.
Подходит к концу еще одна ночь, бессонная, тяжелая. Не такую профессию, Пашенька, ты выбрал, чтобы спать спокойно.
На столе лежит письмо Урюпина. Два мятых листа бумаги. Торопливо написанные строки ползут к правому верхнему углу страницы. Порвать бы эти листки, — знаю — писал их пьяный человек, — выбросить и забыть. Нет, не могу, словно загипнотизированный — читаю, перечитываю.
«Павел, не хочу величать тебя дорогим, уважаемым, незабываемым, очаровательным и т. д. и т. п. Пишу прямо, Павел. Ты человек не вредный. Работать с тобой можно. Но в редакции оставаться я не могу и не желаю.
Почему? Вот вопрос, который не дает покоя вашему любопытству. Почему Урюпин так много пьет, почему катится под откос? Интересно?
Вопросики ты задавал осторожно, танцевал вокруг да около. Какой же ты деликатный, интеллигент. Боялся неосторожным вопросом обидеть, задеть самолюбие. Напрасно. Винтики, шурупчики — самолюбия не имеют.
Я уже несколько лет пребываю в малопочтенной роли шурупчика. Удовлетворю твое любопытство. Почему я перестал быть человеком? Близка к разгадке этой тайны была Тамара. У женщин есть на эти дела нюх. Твоя жена предполагала, что у меня не ладится семейная жизнь. Какая к черту жизнь! Оборвал я ее как самоубийца.
Ты, наверное, слышал, что жена моя журналист. До войны работала в Принеманске. Писать правду — так правду. Журналист она сильнее меня. Хорошо владеет словом. Умеет заглянуть человеку в душу. Увидеть мелочь, раскрывающую характер. Такого плана очеркиста у нас в редакции нет. Она и меня сделала журналистом. Бывало, не только правила мои статьи, но, случалось, и переписывала. Я ей в жизни многим обязан.
И вот я ее бросил. Ушел от нее, пожалуй, в самый трудный в ее жизни момент. Ее отцу, участнику гражданской войны, коммунисту, человеку, которым мы гордились, предъявили политические обвинения. То ли, что он был когда-то связан с оппозицией, или еще что-то. В общем, его исключили из партии. И я струсил. Тесть исключен из партии — его биография кончилась. Тень упала на мою жену, а значит, и на меня. Нелегко быть мужем дочери человека, которому выразили политическое недоверие. И я побоялся, что не только для нее, но и для меня навсегда будут закрыты двери редакций. Когда я уходил, она не плакала, не упрашивала. На прощание лишь сказала: „А я думала, ты человек, а ты бездушный винтик!“
Об этом я никогда никому не говорил. Даже себе не хотел признаваться, что я совершил подлость. А сейчас пишу. Потому что мне на все наплевать. Подлость. Да, я совершил подлость по отношению к человеку, которого любил.
Гнусно даже писать о себе такое. Любил? Да, я ее и сейчас люблю. А бросил ее потому, что струсил. Теперь же все равно, наступило возмездие. Отец жены, кстати, оказался честным человеком, сейчас на фронте. А я подлюга.
Может, с этого и началось. Но разве вином такое зальешь? Знаю, что в газете мне больше не работать. Может быть, отберут партийный билет. Возможно, отправят на передовую, кровью искупать вину. Воевать стану честно. Я написал слово „вина“. Да, я виноват. Перед вами виноват. Забот вам и без меня хватало. Но больше всего виноват перед Ваней Букиным. Он такое перенес в лагерях, в плену, что просто ужас, озлоблен. Ему пить нельзя, а я его напоил, раны растравлял, былые обиды вспоминали. Вот какая мура получается. Он ногами, зубами держался за здравый смысл, а я его подтолкнул. Вот и сорвался человек, нахулиганил. Возможно, ему еще можно помочь. Это моя последняя просьба. Ради нее и исповедь написал.
Прощай. Будь что будет!
Позвонил начальнику милиции. Сказал, что интересуюсь Букиным. Начальник резонно заметил:
— Хулиганство поощрять не стоит, но в суть дела вникнем.
Вина Букина оказалась не столь большой, как ее попытался представить директор завода Чувалов. Больше виноват был Урюпин. Напоил рабочего, вместе с ним пошел в цех и там с пьяных глаз болтал черт знает что. Об Урюпине Чувалов написал в обком партии, а на Букина взвалил все, в чем был виноват Урюпин. Получилось густо. К тому же репутация Ивана Букина — подмочена. Был в плену, в лагерях.
Но, на счастье Букина, следователь ему попался добросовестный. Разобрался, что к чему, пришел к заключению, что привлекать рабочего к уголовной ответственности нет оснований. С его заключением согласился прокурор. Букин на свободе. И думаю, что мой звонок к начальнику милиции особой роли не сыграл.
А вот с Чуваловым действительно пришлось повозиться. Он уперся — незачем на завод возвращать хулигана.
— Удивляюсь, Павел Петрович, — сказал Чувалов, — как вы можете ходатайствовать за этого человека. Ведь он подвел редакцию!
— Урюпин — это еще не редакция. И нам не пристало вину журналиста перекладывать на другого человека.
Чувалов не слушал доводов. Пришлось обратиться в обком партии. Здесь не поскупились на упреки в адрес редакции, но Саратовский сумел убедить директора, что Букина нельзя отрывать от коллектива. При этом он прямо сказал, что Чувалову Букин пришелся не ко двору не потому, что он вместе с Урюпиным дебоширил в цехе, а потому, что этот рабочий больно ершист, когда видит недостатки, то не молчит о них.
Конфликт улажен. Но, боюсь, ненадолго. Чувалов остался недоволен.
Вот так сюрприз
И вот я снова в Москве. Чемодан оставил в камере хранения на Белорусском вокзале и помчался в «Красное знамя». Сейчас для меня это самый родной дом в столице. Поезд пришел рано. Редакционный день еще не начался. В лифте поднимался вместе с Семеном. После его традиционного приветствия: «Как живешь и как с этим бороться?» последовал добрый десяток вопросов. Судя по ним, в Москву доходят весьма преувеличенные сведения о жизни в освобожденных районах западных областей и республик. Положение, мол, хуже, чем на фронте — стреляют из каждой развалины, без сопровождающего автоматчика и нос на улицу не сунешь.
— Конечно, у нас сегодня труднее жить, чем в столице, — ответил я Семену, — порой кажется, что шагнул в прошлое, так сказать, откатился на много лет назад: индивидуальное сельское хозяйство, мелкие частные лавчонки. Случается, и стреляют. Классовая борьба есть классовая борьба! Вот и Олега, нашего корреспондента, ранили. Но уверяю тебя, что в Принеманске и других западных городах не так опасно, как вам здесь кажется.
Семен недоверчиво посмотрел на меня, хмыкнул.
— Трудностей — хоть вагон грузи, — продолжал я рассказывать, — электричество не всегда бывает, вода — тоже. В редакции нет дров — холодина. Людей мало. Порекомендовал бы кого-нибудь.
— А знаешь, Пашенька, я бы и сам поехал. Для журналиста ведь это не край, а золотая жила!
— Тебя бы, Семен, взял с превеликой радостью. Главный не отпустит.
— Главный-то может и отпустит, но жена…
Я взялся за телефонную трубку. Надо доложить в ЦК о прибытии. В мембране заглушенный голос Степана Беркутова:
— Вас слушают.
— Докладывает редактор «Зари Немана» Ткаченко, прибыл в Москву для получения ордена.
— Заместитель редактора, — поправил Беркутов.
— Вы не в курсе дела. Решение бюро обкома партии состоялось несколько месяцев назад.
— Через час жду вас в ЦК. Пропуск будет заказан.
Всю дорогу до ЦК я думал о тоне, каким Беркутов произнес «заместитель редактора». Надо было, очевидно, назваться и. о. редактора. Но почему исполняющий обязанности? Уже первый номер я подписал просто «редактор». Для этого были основания: решение бюро обкома состоялось. Тогда же послали документы в Москву. Претензий ко мне никаких не предъявили.
В кабинете Степан Беркутов был не один. Пожимая мне руку, он кивнул головой в сторону своего собеседника — высокого лысеющего человека с длинной шеей.