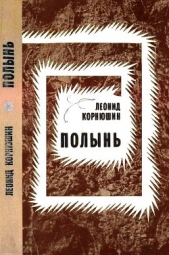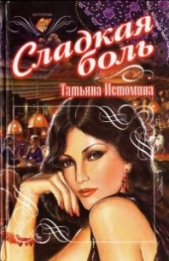Сладкая полынь
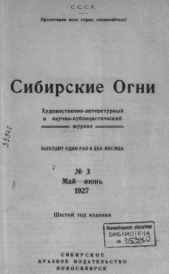
Сладкая полынь читать книгу онлайн
В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни... Журнал «Сибирские огни», №3, 1927 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
9.
Ксения входит в сторожку при церкви, где живет теперь поп. Поповский дом, высокий, шестиоконный, под железной крышей, несет на своем карнизе маленькую вывесочку: «Изба-читальня». Ксения проходит мимо дома, не подымая глаз.
Сухой, чернобородый монах встречает ее на пороге и, внимательно разглядывая, пропускает в низенькую горенку. В полусвете, рассеянном кругом, видит Ксения мельком голые стены с киотом в красном углу, узенькую лежанку, простой, ничем не покрытый стол и табуретку возле него.
— Садись, дочь моя! — торжественно говорит монах. — Слыхал я, что о душевном у тебя есть желание побеседовать. Слыхал.
У Ксении сердце замирает в тоске и жалости какой-то. Она отвечает не сразу. И глух и неуверен ее голос в этом ответе:
— Да, батюшка...
Монах еще раз внимательно разглядывает. Он слышит тревогу и замкнутость в голосе пришедшей к нему женщины, он чувствует ее смятение, но он уверен в себе, он знает по многолетнему опыту эти замкнутые и недоверчивые души, приходящие за духовной помощью, и есть у него для них большой запас давнишних, привычных слов. Он уверен в себе и в силе своих утешений. И, полон непоколебимого, но смиренного превосходства над этой заблудшей душою, он ободряет ее:
— Не бойся, дочь моя... Я не мирской, мне можно все поведать. Садись и все расскажи, все, что смущает дух твой. Господь тебе, через меня, недостойного, поможет.
Как во сне, побуждаемая чужою волею, опускается Ксения на табуретку, складывает руки на коленях, наклоняет голову и тихо вздыхает.
— Не знаю я... Я, батюшка, от бога давно откачнулась... А теперь не знаю, куда мне стукнуться. Люди говорят, молитва помогает...
— Молитва, если с чистым сердцем да с верою приступить к ней, всегда поможет. Господь милостив.
Ксения снова вздыхает и умолкает.
— Ты все, все, как на духу, расскажи про себя! — подходит к ней монах ближе и в его глазах, устремленных на Ксению, горит настойчивость: — Если утешения в вере ищешь, ничего не скрывай!
И в мирной тишине суровой, с показаной монашескою убогостью горенки начинает неуверенно, но с возрастающей страстностью звучать сдержанный женский голос. Начинают нанизываться слова, сначала сбивчиво и тревожно, но, чем дальше, тем все слаженней и смелее. Полузакрыв глаз и уйдя вся в себя, Ксения начинает обнажать пред чужим, но внимательно, как бы подстерегая ее, слушающим человеком самое свое тайное, самое сокровенное свое.
Монах, черный и тонкий, стоит возле нее и опирается рукою о стол, и костлявые пальцы его неподвижно лежат на свежей желтизне дерева. Он слушает и не прерывает женщину. Лицо его бесстрастно, глаза чуть-чуть поблескивают. Он молчит, ибо по давнему опыту знает, что женщина и так скажет все. Он бесстрастен, потому что знает, что он праведной, примерной жизни человек и не пристало ему проявлять суетные чувства.
Ксения рассказывает все. С каким-то отчаяньем она говорит о том, о чем не говорила никому. О своем случайном уходе с партизанами, о своей жизни у них среди боевой опасности, о первой крови, которую увидела, о первой крови, которую сама пролила. О том, как ее ранили, и об ужасе, который охватил ее, когда очнулась она и узнала о своей беде. О годах скрываемой боли и стыда. И, наконец, о возвращении домой и мелькнувшей на мгновение радости. Почти ничего не утаивает Ксения. Монах дослушивает ее до конца молча. И он хранит еще некоторое время молчание даже тогда, когда Ксения умолкает и наклоняется ниже, роняя на колени слезы.
— Многогрешна ты пред богом, — жестоко и властно прерывает молчание монах. — Ох, как многогрешна! Покаяться тебе надо. Искупить свои заблуждения...
Все еще не подымая голову, впитывает Ксения суровую и обличающую речь монаха. Слышит его голос, его гневные слова и чувствует, как вздрагивает ее сердце, как странное успокоение входит в нее от этих слов. Но голос монаха незаметно становится проще, мягче, теряет торжественность и обличительную суровость, и житейское, суетливое, слегка трусливое вплетается в него, и с внезапным изумлением слышит Ксения, приходя в себя, это житейское и суетливое.
— Вот еще я слыхал про тебя, что ты совсем недавно хулителей господа бога привечала, бесят комсомольских... Православные, истинно-верующие и на порог их не пустили, а ты приют им дала. А они с богомерзкими речами выступали, кощунственные картины развозили на соблазн христианам... Грех это, великий грех!..
Ксения приподымает голову. Слезы быстро сохнут на ее щеках, губы плотно сжаты. Почему он заговорил об этом? Разве это ей нужно? Вот пусть бы продолжал так, как начал, пусть сурово и огненно, опаляюще говорил бы о чем-то далеком, не здешнем! Зачем он заговорил о маленьком, ничтожном, что не трогает ее души?
Ксения не говорит этих слов вслух, они, может быть, и не так слагаются в ее сознании, но она так чувствует. И вот поэтому-то тихие слезы перестают скатываться на колени и смутное, неуловимое сожаление о чем-то, сейчас вспугнутом, приливает к ее сердцу.
А монах ничего не замечает и говорит. Теперь, когда он из ее уст услыхал о ее заблуждениях и о ее жизни, он с большей подробностью перечисляет все житейское и повседневное, в чем согрешила она против его законов, против незыблемых устоев его бытия. И в этих прегрешениях узнает она то, к чему уже крепко привыкла, что незаметно стало новым законом новой жизни, к которой за последние годы она приобщилась.
— Нет брака, — поучает он, — кроме брака, освященного церковью. Все остальное блуд и прелюбодеяние... Вот, женщина, оттого и не крепка жизнь твоя была с мужчиной, с которым была ты в греховной связи... Покаяться тебе нужно, омыть себя молитвой и подвигом согрешение.
Она слышит эти слова и внутри нее нарастает недоумение и протест: ведь она сама так хорошо знает, что, если б не ее уродство, то нашел бы в себе Павел силы противостоять неприязни деревни, отстоял бы и ее и себя и не ушел. Не в грехе здесь дело, чувствует она. Но смятенны ее чувства, тянется слабеющая воля к чужой поддержке: может быть, поддержит вот этот, может быть, он вольет в нее новые силы?..
Монах осеняет себя широким крестом. Он кончил, видимо, беседу.
— Наложу я на тебя эпитимию, женщина, — говорит он: — потрудишься молитвою. А потом погляжу...
Ксения уходит от него подавленная. Смятение, с которым пришла она сюда, не рассеялось, не исчезло, она уносит его с собою обратно.
В Верхнееланское едет она вместе с крёстной невеселая. Бегут заснеженные поля, бегут укутанные белым придорожные сосенки, бегут версты. Арина Васильевна возбужденно говорит о чем-то, о чем-то рассказывает, но все проходит мимо Ксении, ничего она не слушает, ничего не слышит...
10.
Афанасий Косолапыч ходит по деревне и хвастается:
— Зарочит подхея у начальства! Из волости бумага председателю, а его карежит! Вострая бумага! Приказывают бедноту собирать на сходку, чтоб самосильно оборачивалась... Ну, Егору Никанорычу в кишке прищемило! Он какой — беднота? у его изба пятистенная, заимка в паях с братом, скотишко завидное... Ступайте седни опосля обеду в присутствие, забирайте свои права!..
Захудалые мужики, которых обходит Афанасий Косолапыч, досадливо слушают его. Они настроены недоверчиво:
— Сколькой раз только и делов, что поманут, а толку никакого!
— А вы крепче горла-то дерите! — учит их Афанасий. — Нажмите на начальству на нашу, она сдаст!
После обеда оповещенные начинают лениво собираться в сельсовете. Они держатся немного растерянно, помалкивают и ожесточенно сосут трубки. Сизый горький дым окутывает их. В дыму этом они понемногу смелеют; завязываются беседы, вспыхивает громкий спор, прорывается крик: сплетается и крепнет все то, из чего вырастает шумная, галдежная, страстная деревенская сходка. И когда Егор Никанорыч, оглядев собравшихся, находит, что пришли уже почти все, он криком призывает к тишине и порядку, и сходка начинается.