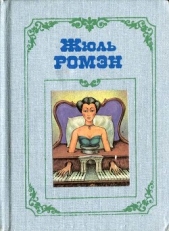Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры
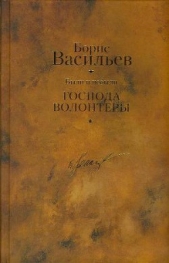
Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры читать книгу онлайн
"Господа волонтеры" - первая часть дилогии Бориса Васильева "Были и небыли", посвященной дворянскому роду Олексиных. На дворе семидесятые годы XIX века, в семье происходят тягостные события, а на Балканах идет освободительная война против турецкого ига. Молодые Олексины отправляются туда в числе сотен волонтеров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наутро Владимир ушел задолго до завтрака. Свою собаку, глупую и ленивую, он оставил дома, а взял злую отцовскую Шельму. Он был очень самолюбив и по-юношески обидчив и твердо решил умереть, но без трофеев не появляться. До озера было неблизко, а охотничье раздолье лежало и того дальше: за самим озером, среди бесчисленных проток, заливчиков, озер и стариц. Поэтому по дороге Владимир не отвлекался, а шел прямиком, и собака с недовольным видом трусила сзади.
Еще на подходе он спугнул с озера стайку уток: взлетев, они сели на глубокую воду. Рассчитывая, что утки вернутся в тихую, заросшую белыми кувшинками заводь, Владимир осторожно залез в кусты и притаился, уложив собаку и изготовив ружье. Добыча была рядом, улетать не собиралась и, значит, должна была перебраться на привычное кормное место.
Топот послышался раньше, чем глупые птицы подплыли на выстрел. Владимир выглянул: по заросшей прибрежной дороге неспешно рысила легкая рессорная коляска, за кучером виднелись раскрытые зонтики.
— Тетушка, это здесь! Я узнала место!
Кучер придержал, женщина соскочила с коляски и, подобрав платье, легко побежала к берегу. Собака тихо заворчала, но Владимир положил руку ей на голову и пригнулся сам, уходя за куст.
Молодая женщина в соломенной шляпке с откинутой на тулью вуалеткой стояла у воды, кокетливо подобрав подол; кувшинки были совсем рядом, она, изгибаясь, тянулась к ним, но не доставала. «Видит око, да зуб неймет», — улыбаясь, подумал юнкер. Женщина вдруг быстро сбросила туфли и, подхватив подол, решительно шагнула в воду. Она шла осторожно, гибко балансируя телом, и очень боялась замочить платье, поднимая его все выше и выше. Владимир судорожно глотнул, во все глаза глядя на белые ноги…
— Лизонька! — раздельно, почти по слогам прокричала дама из коляски. — Где ты, душенька?
Лизонька не отвечала. Она тянулась к кувшинке, поддерживая платье одной рукой, но широкий подол свисал, касался воды, и она поспешно подхватывала его обеими руками. И снова тянулась и снова отдергивала руку, подхватывая непокорное платье.
— Лизонька!
— О господи, — сердитым шепотом сказала Лизонька. — И непременно ведь под руку.
С шумом раздвинув кусты, Владимир бросился в воду. Лизонька ахнула, но платье не уронила. Владимир шел к ней напрямик, срывая по пути кувшинки. Вода доходила ему до груди, но он не обращал на это внимания и стеснялся смотреть на женщину; так и подошел, свернув голову на сторону. И протянул цветы.
— Благодарю, — медленно сказала Лизонька, по-прежнему держа подол в обеих руках. — Вам придется донести ваш подарок до экипажа. Идите вперед.
В голосе ее было что-то такое, чему Владимир подчинился с восторженной готовностью, и шел к коляске, не замечая ни мокрого шелеста собственной одежды, ни удивленно вытянувшегося лица пожилой дамы. Впрочем, Лизонька предупредила расспросы:
— Тетушка, это мой юный спаситель! Представьте, я тонула, меня тащила трясина, и если бы не этот доблестный рыцарь…
Она замолчала, выжидательно глядя на мокрого Олексина; в шоколадных глазах метались два бесенка, и Владимир окончательно потерял голову. Неуклюже щелкнув всхлипнувшими сапогами, представился.
— Как же, как же, мы наслышаны, очень приятно познакомиться, — закудахтала тетушка. — Но боже, мальчик мой, вы же совсем мокрый! Вылейте из сапог воду, и немедленно едем переодеваться.
Владимир покорно вылил воду, сбегал за ружьем, свистнул Шельму и уселся рядом с кучером.
Так случилось познакомиться с Елизаветой Антоновной и ее тетушкой Полиной Никитичной Дурасовой, а позднее, в доме, и с дядюшкой Сергеем Петровичем, таким же полным, медлительным и восторженным. Дурасовы жили в маленьком поместье одни и чрезвычайно, до хлопотливого восторга обрадовались ему: тут же отправили переодеваться в необъятные дядюшкины одежды, отдали его вещи сушить и гладить, накормили собаку и приказали ставить самовар. И весь дом бегал, хлопал дверями, о чем-то спрашивал и радушно суетился.
Кое-как подвязав, подколов и подвернув дядюшкины панталоны, Владимир завернулся в широчайший халат и прошел в гостиную. Лизонька всплеснула руками и звонко расхохоталась:
— Вы прелесть, Володя! Можно мне называть вас так? Ведь вы спасли мне жизнь и, стало быть, отныне почти мой брат.
В шоколадных глазах опять заискрились бесенята. Владимир нахмурился:
— Мне очень приятно, только зачем вы сказали, будто я спасал вас?
— А если это моя мечта?
— Какая мечта?
— Мечта о том, чтобы меня кто-нибудь спас. Взял бы на руки и вытащил из трясины.
— Елизавета Антоновна… — У Владимира опять пересохло в горле, как тогда, когда он смотрел из-за кустов на белые ноги. — Поверьте, я бы за вас жизнь отдал…
— Уже? — рассмеялась Лизонька. — Володя, вы прелесть!
Вошел дядюшка. Осмотрел Владимира, остался доволен, похлопал по спине.
— Значит, в юнкерах изволите?
— Да.
— По какой же части?
— Буду командовать стрелками. — Владимир искоса глянул на Лизоньку.
— Замечательно, замечательно! — сказал дядюшка. — Ну-с, к самоварчику, к самоварчику!
За уютным домашним завтраком Полина Никитична прочно взяла разговор в свои пухлые ручки. Мягко расспрашивала Владимира о доме и семье, и Владимир слово за слово рассказал все: о Василии, уехавшем в далекую Америку, и о Варе, ставшей вдруг суровой; об Иване, который — конечно же! — пороха не выдумает, и о Федоре, бесспорно самом умном, по пока непонятом; об отце, что сам себе выдумал одиночество, и о маме. О том, как неожиданно и несправедливо она умерла и как мучительно долго длились ее похороны.
— Бедный, бедный мальчик! — всплакнула чувствительная Полина Никитична. — Нет, нет, мы никуда вас не отпустим. Мы пошлем человека предупредить, что вы у нас гостите.
А Лизонька улыбалась при этом, да так улыбалась, что Владимир уже ничего не слышал и почти ничего не соображал.
Второй раз при ежевечерних беседах Федора с мужиками присутствовал посторонний. Беседы эти происходили в сумеречные часы, когда дневная работа заканчивалась, а до сна еще оставался час-полтора. Тогда мужики собирались на одном краю села, бабы на другом, а молодежь на третьем: так повелось с тех времен, когда на эти посиделки захаживала Анна Тимофеевна. Барыню любили и уважали: она была своя, родни не чуралась, работы тоже; эти отношения сельский мир перенес и на детей, о родстве, правда, уже не упоминая. Маша и Иван любили ходить к молодежи, Варя иногда навещала баб, а Федор регулярно появлялся у мужиков, но в отличие от матери слушать не умел, а говорил сам, немилосердно путаясь и запутывая слушателей. Однако мир к нему относился снисходительно и любовно: считали, что барчук малость с придурью.
Посторонний был не из деревни и одет в полугородскую-полугосподскую одежду, носил аккуратную бородку, садился в сторонке, строгал палочки и молчал. Напуганный петербургскими филерами, Федор приметил его сразу, но из конспирации справок наводить не решился. Беседы свои он считал вполне дозволенными, но все же старался думать, что говорит. Да и тему избрал нейтральную — о совести.
— Когда Адам пахал, а Ева пряла, совести не было, — втолковывал он. — Когда двое во всем мире кормятся от трудов своих, им нет нужды лгать, красть или обманывать. Этих грехов нет, а раз их нет, то нет нужды и в совести как понятии. Совесть возникает тогда, когда появляется грех. Конечно, я не имею в виду грех первородный, но парадокс первородного греха как раз и заключается в том, что обманутой была божественная сила, а не человек, вот почему грехопадение и не могло разбудить совести ни в Адаме, ни в Еве. Но вот народились люди, отделились друг от друга, сказали — это мое, а это твое, и человечество сразу же было поставлено перед необходимостью создания внутреннего запрета в душе своей. Поступать по совести стало означать соблюдение законов общежития, придуманных специально для того, чтобы четко обозначить границы дозволенного.