Одна неделя в июне. Своя земля
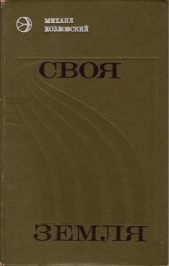
Одна неделя в июне. Своя земля читать книгу онлайн
Михаил Козловский принадлежит к поколению писателей 30-х годов. На первые его произведения обратил внимание М. Горький.
В эту книгу курского писателя вошли две повести: «Одна неделя в июне» и «Своя земля». Острота в постановке волнующих сегодня сельского жителя вопросов сочетается в повестях М. Козловского с тонкостью проникновения в душу крестьянина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я все-таки хочу вернуться к нашему разговору, Ната, — сказал он однажды вечером, оставшись наедине с Анастасией Петровной. Артемка, поужинав, умчался на улицу к своим новым друзьям, что нетерпеливо посвистывали под окнами. — Своим упорством ты удивляешь меня.
Задумчиво склонив голову, она перетирала полотенцем чашки. Яркий свет спускавшейся с потолка лампочки падал на ее черноволосую голову с широким пробором посредине.
— Да что ты! — равнодушно удивилась она, не отрываясь от своего дела.
— В конце концов должна же ты понять меня, — доставая папиросу и постукивая ею о портсигар, твердым голосом продолжал он. — Только на одну секунду почувствуй за меня, и все станет на свое место. Но, извини, ты просто бесчувственна, даже враждебна ко мне. Все, что ни скажу, встречаешь в штыки, никаких моих доводов слушать не хочешь. Пойми, ведь не враг же я ни тебе, ни Наде…
— Ну, а дальше что же? — Она посмотрела на него долгим, внимательным взглядом.
— Поверь… — Он помедлил, раскуривая папиросу. — У меня одна просьба: отпусти Надю ко мне, ничего иного я сейчас не хочу. Квартира у меня вместительная, больше чем нужна для троих, значит, никого не стеснит.
Анастасия Петровна задумалась, перебирая пальцами края полотенца. Она долго молчала, и Николай Устинович поторопил ее с ответом:
— Ну, что же ты молчишь?
Она покачала головой.
— Нет, не поедет она.
— Но почему же? Почему ты не хочешь? Какие у тебя возражения? Она поживет, привыкнет ко мне, лучше узнает, и тогда… Тогда можно все рассказать, если ты не будешь против, — горячо сказал он, зорко наблюдая за ее лицом. — Все будет зависеть от тебя.
Анастасия Петровна тщательно сложила полотенце.
— Ты думаешь о Кате, о жене, да? — спросил он нетерпеливо. — Уверяю тебя, все будет в порядке, не беспокойся. Я все объясню, и она поймет.
— А как же с Федей?
— При чем здесь Федя? — воскликнул он. — Поехала же Надя в Москву без него.
Несколько мгновений она с осуждением смотрела на него, потом заговорила, и стесненные, будто с трудом вытолкнутые слова падали с жестким укором.
— Зачем ты становишься между ними? Разве Федя виноват перед тобой, ты же первый обидел его. Будет тебе в гоголях ходить, нехорошо.
Николай Устинович пожал плечами.
— Да не так же это! А в конце концов, если ты настаиваешь, пусть она приезжает с ним.
— Эх, Николай Устиныч, — укоризненно проговорила она, и лицо ее вдруг сделалось острым и злым. — Не затевай больше этого разговора, не по сердцу он мне. Не обижайся, но всю душу вымотал ты своими словами, терпения нет. Тебе говоришь, а ты все свое, а ты весь какой-то железный…
Она поднялась и принялась собирать чашки. Николай Устинович тоже встал, отошел к окну и поверх занавески стал смотреть во двор, в темноту. Немного спустя Анастасия Петровна проговорила не своим, странно прозвучавшим голосом:
— И если ты хочешь знать правду, она обо всем догадывается… и не хочет встречаться с тобой…
Он резко повернулся, глухо спросил:
— Поэтому и не зашла перед отъездом?
— Да, поэтому, — повременив, ответила Анастасия Петровна.
Он туго провел ладонью по затылку и снова отвернулся к окну.
…В этот вечер Николай Устинович рано ушел в сарай и долго лежал на сене, растирая ладонью грудь, и сон никак не мог прийти к нему. Приятно и остро, как перед дождем, пахло свежим сеном. Изредка под застрехой что-то осторожно шуршало, наверное, воробьи в своих гнездах или ветерок шевелил солому. В приоткрытую дверь веял чистый полевой воздух и заглядывала холодная и яркая звезда. Из-за стены донесся тяжелый и глухой стук, а затем глубокий вздох, — это сонная корова легла в своем закутке. Артемка задвигался на сене — он тоже не спал — и тихо спросил:
— Ты не спишь, папа?
— Нет, а что?
— Правда, хорошо здесь? — с восторгом сказал он и присел, темной фигурой загораживая свет звезды. — У меня еще никогда не было такого лета. Это замечательно ты придумал — приехать сюда…
— Спи, завтра поговорим.
— Я сейчас, папа, только ты послушай меня. — Он снова зашуршал сеном. — Мы уже седьмой день здесь, а я не замечаю, как проходят дни.
— Значит, весело тебе?
— Еще как весело, папа! Так весело, как никогда не было. Знаешь что? Давай теперь каждый год сюда приезжать. Зимой в городе будем жить, а летом здесь. Хорошо, папа? И маму с собой возьмем.
— Спи, Артемка, поздно уже.
Вздохнув, сын улегся, но минуту спустя глухо сказал в подушку:
— А ты так и не показал капониры. А договаривались с тобой…
«Да, седьмой день… Неужели седьмой день?!» — эта мысль изумила и встревожила Червенцова. Таким тягостным ожиданием наполняется время выздоравливающего, когда каждый час распадается на минуты, медленно набухающие, как капли на сосульке. Вдруг в его памяти мелькнула очень давняя картина. Он лежит в палате в госпитале, в старинном палаццо какого-то польского магната. Высокие лепные потолки, мраморно-розовые стены залиты снежно-белым светом. Свежесть вешнего света и на подушках, и на прихотливых узорах паркета, и на бронзовом литье огромного камина. За высоченными окнами — просторный сад, весь белый и застывший, на лапчатых елях лежат пухлые пласты: всю ночь летел медлительный липкий снег, занес садовые дорожки и беседки. Мартовское солнце расплавленно сияет в густо-синем небе, за окнами гремит торопкая капель. В палате тишина, сосед по койке, капитан-артиллерист, спит, укрывшись с головой серым суконным одеялом. Все ушли в зал с колоннами, откуда видны улицы старого города, костел с раскрашенными статуями в нишах у входа. Столпившись у окон, выздоравливающие разглядывают прохожих, обмениваются мнениями о них, о непонятной жизни города. Доносится приятный низкий звон колокола, зазывающего в костел. Николай Устинович, удобно уложив под спину подушку, с блаженным ощущением чистоты и покоя перебирает полученные накануне из полка письма, среди них есть и конвертик-самоклейка от Наты с вложенной в него малой, в пол-ладони, фотографией. В тишине, под торопливую болтовню капели, наплывают приятные воспоминания, добрые, не тревожные, они возвращают к началу его счастья, и после них остается сладко-щемящая грусть. Положив на ладонь карточку, он долго глядит на милое лицо, дышащее молодостью и здоровьем, на пухлые, слегка приоткрытые губы, словно за ними спряталась улыбка, и ему кажется, что он ощущает чабрецовый запах женских волос.
— Кем ты любуешься, Коля? — вдруг слышит он за спиной низкий голос и от неожиданности роняет фотографию на пол.
Палатная сестра Катя неслышно подошла сзади и теплой ласковой ладонью коснулась его затылка. Хрустя свежевыглаженным халатом, она быстро наклоняется, поднимает карточку и, коротко взглянув на нее, спрашивает:
— Кто это? Очень красивая женщина…
Он замечает, как ее глаза полыхнули темным пламенем, и внезапно, сам не понимая, как это вырвалось у него, небрежно говорит:
— Это… это сестра Настя… Вот получил от нее письмо.
— Сестра? — недоверчивым тоном переспрашивает она и садится рядом с ним на койку. — Совсем не похожа на тебя, ничего общего.
— Ну, видно, мать в чем-то напутала, — глупо шутит он, отбирает у нее фотографию и, засунув в конверт, глубоко прячет под подушку.
И снова, как тогда, в палате, на него дунуло тревожным душком предательства. «Все-таки нельзя так, малодушие во всем отвратительно», — повторил он тихо и потянулся за папиросой. Неужели у него в тот момент не хватило мужества сказать правду Кате? А ведь он умел говорить с начальством и бестрепетно бросать горькие и обидные слова, и ничего — сходило, за ним даже закрепилась слава твердого парня, грозы начальников. Всего несколько слов, простых, обыкновенных слов, и они освободили бы, может быть, от необходимости лгать много лет, молчанием, но лгать. Почему же мы всегда забываем, что наши поступки, наши слова и составляют жизнь?.. Что-то не так сделал или вовсе не сделал, не то сказал или вовсе промолчал, когда надо сказать, — и вот вытянулась цепочка поступков, которая и есть жизнь. Он вспомнил, как недавно отозвался о Кате, о жене, матери его сына, и гадливость поднялась в нем к тому, как он тогда говорил, — мерзко, лживо и, главное, бессмысленно. Пожаловаться, что ли, захотел, представиться обойденным судьбой.























