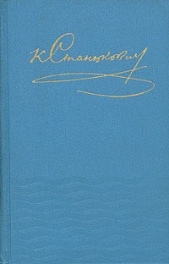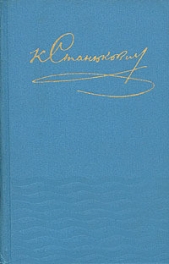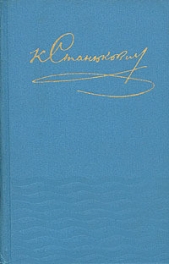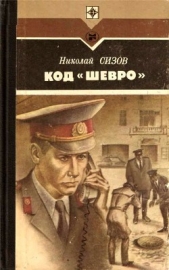Повести и рассказы

Повести и рассказы читать книгу онлайн
В книгу вошли уже полюбившиеся читателям повести «Мачеха», «Простая повесть», «Одиночество» и рассказы старейшей томской писательницы, в которых она размышляет о взаимоотношениях в семье, о чуткости, о душевном благородстве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первые три года молодые жили при теще, в ее старенькой крохотной пятистенке. Жили неплохо, только обстановку некуда было расставлять. Поставили в горнице двуспальную кровать-новокупку, а Юркину кроваточку хоть в сени выбрасывай. Про шифоньер или там про буфет говорить нечего, а шифоньер Шурке два года даже по ночам снился.
Три года назад, получив по соседству, в совхозном доме, комнату, молодые вроде как бы отделились от тещи на самостоятельную жизнь. Анфиса Васильевна сама способствовала этому «разделу». По существу в жизни семьи ничего не изменилось: в новой комнате расставили обстановку, а столовались по-прежнему с матерью; ребятишки дневали и ночевали у бабушки, да и молодые нередко уходили к себе только на ночь. Зато теперь в хлевушке у Анфисы Васильевны похрюкивала уже не одна, а две свиньи: одна «моя», другая «Пашина».
Картошку теперь садили на двадцати сотках в поле, а мамашин огород целиком отвели под овощи и ягодник. Базара в совхозе не было, овощи и ягоду служащие разбирали нарасхват.
Возвратившись как-то из города с двухмесячных курсов, Павел обнаружил в полуразвалившейся, много лет пустовавшей стайке доброй породы нетель.
— Ничего, милый зятек, косись не косись, а это тоже не дело — таскаться каждый вечер с бидончиком в совхозный ларек за молоком.
Никаких забот о домашности Павел не знал. Насчет земли, покоса или там пиломатериала на строительство стайки, на ремонт мамашиного дома в контору с заявлением ходила Шурка. Отказать ей было невозможно: маленькая, румяная, синеглазая, с синеглазым румяным младенцем на руках, она могла обезоружить любого, самого прижимистого хозяйственника.
Работой домашней Анфиса Васильевна зятя также не обременяла и Шурке внушала строго:
— Мужик на производстве рук не покладает, учится на ходу, а мы с тобой, как барыни, дома сидим. Неужели вдвоем с таким хозяйством не управимся?
К тройному празднику Анфиса Васильевна начала готовиться загодя, основательно и не спеша: выкоптила полупудовый окорок, съездила к знакомому бакенщику за малосольной нельмой, потому что какой же праздник без рыбного пирога? Тайком от зятя закатила за печь двухведерный лагун бражки-медовухи. А кому какое дело? Мед-то некупленный, от собственных пчел.
Ничего, на празднике зятек и сам запрещенной бражки выпьет, и гостям подносить будет, да еще спасибо скажет теще за заботу. Шутка в деле, какая экономия получается на водке со своей-то бесплатной бражкой.
Разливая по блюдам душистый холодец, Анфиса Васильевна сердито поглядывает в окно, прислушиваясь, не стукнет ли калитка.
Шурка с самого утра возится в новой квартире, наводит перед новосельем окончательный лоск, даже Леночку покормить ни разу не прибежала; пришлось беляночку весь день на каше да на коровьем молоке держать.
Юрка-варначонок за эти дни совсем от рук отбился, носится с ребятами, не загонишь молочка парного напиться.
А Паша и обедать не приходил, — на что это похоже? И так уж заработался — одни мослы остались.
Стукнула калитка, через двор, прикрывая лицо краем теплого пухового платка и как-то по-чудному сгорбившись, бежала Шурка.
У Анфисы Васильевны сразу, как перед большой бедой, оборвалось сердце.
Шурка тихонько выла, стучала зубами, дергала, как припадочная, головой; пришлось разок стукнуть ее по затылку, чтобы как-то привести в чувство. Бросив на стол измятый конверт, она отпихнула к стене сонную Леночку и повалилась ничком опухшим лицом на подушку.
У Анфисы Васильевны тряслись руки, строчки чужого измятого письма сливались в глазах.
«…Может быть, ты, Павел Егорович, посчитаешь, что мое дело сторона, но я все же должен тебя известить, что Наташа неделю назад скоропостижно умерла и осталась после нее дочь Светлана, семи лет. Когда мы приехали на место, Наташа моей жене призналась, что в тягости уже на пятом месяце.
Здесь у нас Светка и родилась; фамилия у нее Наташина, а отчество Павловна. Обличьем вылитый твой портрет, и не только обличьем, но, более того, характером: такая же серьезная и башковитая; училась нынче в первом классе на одни пятерки. Наташу сватал наш прораб, мужик одинокий, самостоятельный, только она не пошла. Жила со Светкой при нас такой же монашкой, как и до тебя жила. Я бы Светку взял, да не надеюсь на здоровье и своих ребят навалом. А в детский дом отдать при живом отце руки не поднимаются. Да и перед Наташей грех.
Так что решай, Павел Егорович, как тебе совесть подскажет.
Ответ будем ждать две недели: коли не ответишь, придется решать судьбу дочери твоей чужим людям».
Дальше шли поклоны покровским родичам и знакомым и подробный адрес жительства.
— Господи! — облегченно вздохнув, Анфиса Васильевна бросила письмо на стул: — Ну, дура сумасшедшая! Испугала до полусмерти! Я думала: с Пашей что стряслось.
Письмо принесли утром. Шурка в это время была занята совершенно неотложным и очень ответственным делом: прикрепляла новые тюлевые шторы к золоченым багетным карнизам. Не до письма было. В обед заезжал Павел, взял с комода нераспечатанное письмо. И, только мельком оглянувшись и увидев, как медленно, тяжело отливает кровь от его лица, Шурка поняла, что письмо принесло беду.
— Дура ты бестолковая! Разве это мысленно?! — всплеснула руками Анфиса Васильевна. — Мужику письма идут, а она их нечитанными на комод кидает. Что же ты его не прочитала, пока Паши дома не было? Прочитала, сунула в печку — и нет ничего!
— Я же думала, оно от Вари, от золовки, она одна ему пишет. — Судорожно всхлипнув, Шурка оторвала лицо от мокрой подушки: — Он, как прочитал, сразу с лица сменился. Подал мне письмо, а сам сидит, молчит как каменный. Потом встал: «Пойду, — говорит, — телеграмму отобью, потом к директору, попрошу отпуск, дня за четыре обернусь туда и обратно». А я встала на порог в дверях: «Никуда ты, — говорю, — не поедешь, потому что я все равно ее не приму!»
Голос у Шурки сорвался. С тихим воем она опять повалилась в подушку.
— Никуда ты не поедешь, потому что я все равно ее не приму! — Шурка стояла перед Павлом, бледная, вскинув подбородок. Прищурившись, смотрела ему в лицо чужими глазами.
— Если ребенок твой был, с чего бы она тогда уехала? Да она бы тебя, телка лопоухого, враз бы как миленького окрутила, Значит, нельзя ей было на тебя свалить…
— Ничего ты не понимаешь, — тоскливо отмахнулся Павел. — Я ей не один раз предлагал расписаться, когда про ребенка и помину не было… Она сама не соглашалась. Не хотела жизнь мне портить, потому что старше меня была и нездорова. А про ребенка скрыла и уехала, чтобы руки мне развязать. Узнала, что я с тобой дружить начал, и пожалела.
— А если бы сказала, значит, на ней бы женился?! Променял бы меня на старую… на страхолюдину?! Такая, значит, любовь ко мне была?!
— Я ж от тебя ничего не скрывал, ты все знала…
— Врешь! — яростно взвизгнула Шурка, с трудом сдерживая подкатившиеся к горлу слезы. — Я думала, что ты с ней просто так… трепался, а ты… Посмотри в зеркало на себя, как тебя сразу перевернуло! Значит, любил, если так переживаешь! А теперь дочь ее пригульную на шею мне хочешь посадить?! Не бывать этому никогда! И думать об этом не смей!
— Дура ты, Шурка! Если ты ее не примешь, что же я тогда делать буду? — растерянно спросил Павел.
— Если, говорит, ты ее не примешь, что же, говорит, я теперь делать буду? — всхлипывая и сморкаясь в Леночкину пеленку, Шурка сквозь опухшие от слез веки растерянно, умоляюще смотрела на мать. — Потом куртку рабочую снял, надел новый пиджак и ушел. А письмо в куртке, в кармане, осталось… я и взяла…
— Ладно, хватит выть… — сурово оборвала мать. — Хорошо, что хоть ума хватило, не поддалась ему; сразу твердо на своем поставила. Так вот и будешь держаться. Домой не пойдешь. Умойся и ложись с Леночкой, а я с Юркой в кладовке постелюсь. Не реви, обойдется. Побегает, побегает, одумается и прибежит. Одного боюсь: не проболтался бы кому про письмо сгоряча! Да нет, не может такого быть. Парень он неглупый, не захочет своими руками и на тебя, и на себя петлю такую надеть. Спи, твое дело маленькое. Теперь уж я сама с ним разбираться буду.