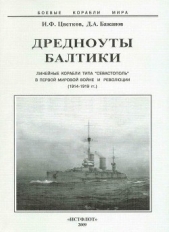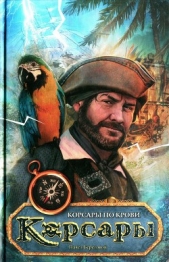Россия, кровью умытая

Россия, кровью умытая читать книгу онлайн
В романе «Россия, кровью умытая» замечательного русского писателя, одного из зачинателей советской литературы Артема Веселого (1899–1938) запечатлен облик революционной России, охваченной огнем гражданской войны.
Текст приводится по изданию Артем Веселый. Избранные произведения, М., Гослитиздат, 1958 (с устранением опечаток).
Подзаголовок «Роман. Фрагмент» был сделан автором.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потоки огня и стали размывали материки армий.
Приказы о мобилизациях расклеивались по заборам; в деревнях — оглашались по церквам и на базарных площадях.
Шли люди тяжелого труда и мелкая чиновная братия, земские врачи и учителя народных школ; шли прапора ускоренных выпусков и недоучившиеся студенты, дети полей и городских окраин; шли ремесленники и мастера, приказчики модных магазинов и головорезы с большой дороги; шли бородачи — отцы семейств, шли юноши — прямо со школьных скамей; шли здоровые, сильные, горластые; калеки возвращались на фронт, жениха война вырывала из объятий невесты, брата разлучала с братом, у матери отнимала сына, у жены — мужа, у детей — отца и кормильца.
Шальные, растерзанные, орущие — ватагами — шлялись по улицам, ломали плетни и заборы, били стекла, плясали, плакали, горланили пропащие песни…
— Гуляй, ребята… Последние наши денечки… Гуляй, защитники царя, веры и отечества!
— Царя?.. Отечества?.. Ты мне больше этих слов не говори… Я там был, мед и брагу пил… Слова твои мне все равно, что собаке палка.
— Брательник, тяпнем горюшка?
— Тяпнем, брат.
Петруха стряхнул висевшую на руке жену, разорвал гармонь надвое и, хлестнув половинкой об избяной угол, пустился в присядку.
— Всю Ерманию разроем!
— Уймись, — унимала его не видящая света жена. — Уймись, пузырек скипидарный.
Петруха из оглобель рвался.
— Ты меня не тревожь, я теперь человек казенный. Старуха — лицо подобно гнилому ядру ореха — простирала землистые руки.
— Гришенька, дай обнять в останный разочек.
— Не горюй, бабаня, и на воине не всех убивают.
— Сердцу тошно… Гришенька, внучек ты мой жаланный… Помолись на церковь-то, касатик.
— Сват, прощай!
— Час добрый.
— Война…
— Ох, не чаем и отмаяться.
— Не вино меня качает, меня горюшко берет.
— А ты, Гришутка, на службе пьяным-то не напивайся, начальников слушайся…
— Будя, будя, бабаня.
Последние объятья, последние поцелуи.
И далеко за околицей — в кругу немых полей — понемногу затихали дикие песни, крики, причитания.
И долго еще за деревней, упав на сугроб, вопила старая мать:
— Последнего… Последнего… Ух… Лучше бы я камень родила, он бы дома лежал. Ух, батюшки! Алешенька, цветочек ты мок виноградный! Али без тебя у царя и народу-то бы не хватило?
Ветер хлестал черным подолом юбки, развевал выбившиеся из-под платка седые космы.
— Последнего забрали… Да он и вырасти-то не успел… Последнего! Ух, ух… Сыночки вы мои, головушки победные…
Но не слышали матери родные сыны, и лишь из дальней яруги — на вой ее — воем отзывались волки.
По кубанским и донским шляхам, по большакам и проселкам рязанских и владимирских земель, по речушкам Карелии, по горным тропам Кавказа и Алтая, по глухим таежным дорогам Сибири — кругом, на тысячи верст, в жару и мороз, по грязи и в тучах пыли — шли, ехали, плыли, скакали, пробирались на линии железных дорог, в города, на призывные пункты.
В приемных — страсть и трепет, горы горя и разухабистая удаль да угарный мат.
Раздетых догола призывников о чем-то спрашивали гарнизонные писаря, наскоро щупали и слушали доктора
— Годен. Следующий.
Призывники тащили жеребья.
— Лоб!
И сверхсрочный кадровый унтер-офицер отхватывал призывнику со лба ножницами клок волос.
— Лоб!
На затоптанном полу валялись всех цветов волосы, которые еще вчера чья-то любящая рука гладила и причесывала.
Из приемной вылетали, будто из бани, — красные, распарившиеся, с криво нацепленными на шапки номерами жеребьев. Полными горстями хватали из-под ног и жрали грязный снег.
— Забрили… Тятяша, вынули из меня душу.
— Петрован, слышь, своего Леньку отхлопотал…
— У них, батя, карман толстый, они отхлопочут.
— Что ты будешь делать… На все воля божья… Послужи — не ты первый, не ты и последний.
— Васька, — лезет тетка через народ, — не видал ли моего Васеньку? Поглядеть на него…
— Пьянай, с ног долой… За трактиром в канаве валяется, ха-ха-ха, весь в нефти.
— Ох, горе мое… Сколько раз наказывала — не пей, Васенька… Нет, опять накушался.
— Прощай, Волга! Прощай, лес!
Казарма скорое обучение молебен вокзал.
…У облупленной стенки вокзала стоял потерявший в толпе мать пятилетний хлопец в ладном полушубчике и в отцовой, сползавшей на глаза шапке. Он плакал навзрыд, не переводя дыхания, плакал безутешным плачем и охрипшим, надоевшим голосом тянул:
— Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…
Рявкнул паровоз, и у всех разом оборвались сердца.
Толпа забурлила.
Перезвякнули буфера, и эшелон медленно двинулся.
С новой силой пыхнули бабьи визги.
Крики отчаяния слились в один сплошной вопль, от которого, казалось, земля готова была расколоться.
Хлопец в полушубчике плакал все горше и горше. Левой рукой он взбивал падавшую на глаза отцову шапку, а правую— с зажатым в кулаке, растаявшим сахарным пряником — протягивал к замелькавшим мимо вагонам и, как под ножом, все кричал да кричал:
— Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…
Колеса отстукивали версту за верстой, перегон за перегоном.
Тоску по дому, по воле солдаты заливали одеколоном, политурой и лаком. Плясали на коротких остановках, снимались у привокзальных фотографов, в больших городах — на извозчиках — скакали в бардаки.
В Самаре и Калуге, Вологде и Смоленске, в казачьей станице и в убогой вятской деревеньке не умолкало сонное бормотание полупьяного дьячка:
— Помяни, господи, душу усопших рабов твоих, христолюбивых воинов — Ивана, Семена, Евстафия, Петра, Матвея, Николая, Максима, Евсея, Тараса, Андрея, Дениса, Тимофея, Ивана, Пантелея, Луку, Иосифа, Павла, Корнея, Григория, Алексея, Фому, Василия, Константина, Ермолая, Никиту, Михаила, Наума, Федора, Даниила, Савватея — помяни, господи, живот свой на поле брани положивших и венец мученический воcприявших… Прими, господи, убиенных в селение праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная… Вечная память!
С православным дьячком согласно перекликался лютеранский пастор и католический ксендз, тунгусский шаман и магометанский мулла.
Над миром стлалась погребальная песнь.
Но в напоенной кровью земле зрели зерна гнева и мести.
Глухо волновался Питер, и первые камни уже летели в окна полицейских участков…