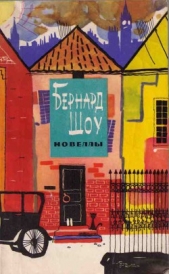Блокадные новеллы

Блокадные новеллы читать книгу онлайн
Новую книгу известного советского писателя Олега Шестинского составили рассказы о людях родной земли, прошедших нелегкие испытания. Нравственное становление подростков, переживших суровые дни блокады Ленинграда, характеры наших современников, чистые и правдивые образы русского человека встают перед читателем во всей жизненной достоверности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Война изменила жизнь бесповоротно.
В один из летних дней нас, школьников, посадили в поезд и под присмотром учителей повезли от бомбежек и войны.
В Фелистово машины не могли пройти по расхлябанным дорогам, и последние километры шли пешком, а вещи погрузили на подводы. Мы радовались всякой новизне. Мельницы, еще сохранившиеся у реки; густые леса, подходившие к воде темной чащей; гуси, такие важные, будто их «предки» взаправду спасли Рим, — все завладевало мальчишеским воображением.
Расселили нас по крестьянским домам. По нескольку человек в избе. Никому особого дела до нас не было — только что взяли в армию мужчин, и женщины обостренно тоскливо переживали разлуку.
Мы бродили по окрестностям, ловили раков, помогали полоть свеклу на полях и с несокрушимой верой ждали дня, когда наконец наши войска повернут и погонят фашистов.
Однажды, лакомясь молодым горохом, я ушел далеко от деревни и, свернув за речную излучину, встретил Тоню. Она училась вместе со мной, но поступила в нашу школу недавно. Ей исполнилось четырнадцать лет — она была на два года старше меня. Говорили, что она уже целуется с мальчишками, и я смотрел на нее с каким-то чувством робкого любопытства.
И вот она — не в стайке подружек, а одна, тоненькая, с прямыми темными волосами, с глазами лукавыми и насмешливыми. Я остановился. «Ты чего?» — по-женски капризно спросила она. Я молча стал выбирать и срывать раздутые от горошин стручки. Тоня стояла в стороне и покусывала травинку. «Тебе уже пора убрать челку. Ты вырос», — спокойно, словно над чем-то раздумывая, произнесла она. Я вздрогнул от ее голоса, и слова ее словно не дошли до меня. Я сунул ей пригоршню стручков, моя рука коснулась ее ладошки, и она слегка пожала мне пальцы. «Давай вместе есть», — предложила Тоня, но я покраснел и, буркнув! «Я уже поел», — пошел вдоль реки обратно. «Ну и дурак!» — звонко крикнула она вслед. Я даже не обернулся. Я шел как потерянный, потому что чувствовал — девочка одержала верх надо мной, а почему одержала, понять не мог.
Еще мне запомнился пожар. Горел сарай у реки, люди вытянулись цепочкой, передавая от берега ведра с водой. И Тоня была рядом, раскрасневшаяся, быстрая, бадейки мелькали в ее руках, и она, поворачиваясь ко мне, кричала! «Ну, давай! Чего ждешь!» — хотя я и не задерживал ведра. Мы потушили пожар до того, как на конях прискакали пожарные. Им осталось только растащить баграми дымящиеся бревна. Начальник их хлопнул брезентовыми рукавицами и сказал негромко, глядя на нашу Тоню: «Ну, девчата, вам теперь самим и тушить, и…» Он недосказал, пошел к лошадям. «А вы куда же, дядя?» — спросил я. Он посмотрел на меня и ответил серьезно: «На фронт мы…»
Через несколько дней я простудился и заболел. У меня поднялась температура, я лежал на матрасе возле русской печи, глотая взятые из дома таблетки. Состояние мое не улучшалось, и тогда моей маме написали, что я болен.
Она вымолила у главного врача больницы отпуск на несколько дней и отправилась ко мне. Ехала в теплушке, в кузове дребезжащего грузовика, потом на крестьянских подводах, брела пешком…
Она явилась в Фелистово вечером. Я лежал, кутаясь в одеяло, и смотрел снизу вверх в окно, где бледнело и исчезало солнце. Мама вбежала в избу, упала на колени, потому что я лежал на полу, обняла меня, заплакала и сказала только: «Сын мой!» У нее осунулось лицо, рукав платья разорвался, на ногах были грубые и крепкие башмаки, и пахло от нее не тонкими духами, которые она любила, а чем-то крестьянским — свежим сеном, домотканым холстом… Она улыбалась мало, словно потеряла свою улыбку на дорогах, пока ехала ко мне, и в ней почти ничего не осталось от той солнечной молодой женщины, какой всегда была до войны. Она выглядела суровой, посидела со мной недолго и пошла искать подводу, чтобы наутро мы смогли отправиться на станцию. Она привезла с собой сахар, за который тогда в деревне отдавали что угодно, и вскоре договорилась о лошади.
Утром, едва сошел туман с поля, к избе подъехала возница, и мама принялась укутывать меня, заматывать шарфом горло, налила в термос горячее молоко.
Все еще спали, когда мы тронулись. У одной избы скрипнула калигка, и тоненькая фигурка появилась у дороги. «Здравствуйте!» — сказала Тоня. «Здравствуй, девочка!» — ответила мама, быстро взглянув на нее. «Вы его увозите? У вас очень хороший мальчик», — совсем по-взрослому сказала Тоня. «Да-да…» — как-то рассеянно проговорила мама, видно занятая своими мыслями. Тоня махнула мне рукой и пошла обратно в дом, придерживая на ходу небрежно накинутое на плечи пальтишко. А я только поморгал ресницами, потому что, скованный шарфами, не мог пошевелиться.
Лошадь оказалась заморенной, тощей, и возница разрешил сесть на телегу лишь мне. Сам он пошел рядом с лошадью, а мама — сзади, положив руку на край телеги. Она была маленького роста, моя мама, и шаг у нее был мелкий, поэтому ей приходилось иногда бежать, особенно когда лошадь спускалась с холма, но на это мама не обращала внимания.
Она смотрела только на меня, когда телегу на ухабах качало, спрашивала голосом твердым и ровным; «Тебе не хуже?» — трогала мой лоб и зачем-то откидывала мне волосы со лба.
Иногда она спотыкалась о твердые куски глины, но, даже теряя равновесие и хватаясь двумя руками за край телеги, чтобы не упасть, смотрела на меня.
У меня горело лицо, я дремал, но, несмотря на дремоту, на болезненное состояние, с каким-то недетским удивлением думал о маленькой женщине, которая шла за подводой. Она была так не похожа на ту, с которой я ездил на юг, ходил в цирк, ел в кафе слоеные пирожки. Мама — рядом, и мне становилось покойно, меня не страшили ни болезни, ни бомбежки, столько силы излучало ее лицо. «Ты ничего не бойся, — говорил ее взгляд, — я с тобой, и значит, все в порядке». — «Я ничего не боюсь», — отвечал мой взгляд, и мне хотелось спать потому, что слаб, и еще потому, что верил в ее оберегающую силу.
Я заснул. Сколько спал — не знаю, но когда проснулся, все так же покачивалась телега, шумели леса вдоль пути и все так же, не отрывая от меня глаз, шагала мама. Прядь ее черных волос прилипла к потному лбу. «Мама, — сказал я, и мой голос был, наверно, так необычен, что она встрепенулась и спросила тревожно: «Что с тобой?.. Тебе хуже?..»— «Нет, не хуже… Знаешь, мне очень хорошо… Я тебя очень, очень люблю…» — «Ну что ты! Ну что ты! — скороговоркой произнесла она, впервые отворачиваясь от меня в сторону и шепча: — Ты еще потерпи… Скоро станция…»
…Машина выскакивает из хвойного леса, и на покатых холмах виднеется вдали Фелистово. Я выхожу из машины и иду пешком.
Дождь перестал, небо не в тучах, а в матово-бледных облаках, и земля лежит утомленная, спокойная. Избы стали еше темней от влаги. Я иду медленно, вглядываясь в каждый кустик, деревцо, дом. Вон в низине река, а там, где сейчас черные глыбы вспаханного поля, наверное, рос горох, тот самый горох…
Две пожилые женщины, присматриваясь, идут навстречу.
— Здравствуйте! Не сродник ли кому?
— Нет… В начале войны ленинградских ребятишек у вас селили…
— Как же! — восклицает одна. — Я еще для них матрасики сенцом набивала — трудодни за это писались…
— Вот я один из них…
— Милой, — всплескивает руками женщина, — жив остался!
Объясняю, что жил во втором доме от околицы.
— Ну! Ну! У Анны Сивцевой! Избы-то уже нету. Хозяева уехали. Сруб продали и свезли его, а годы землю пригладили.
Я все-таки иду туда, к месту, где стоял дом Анны Сивцевой.
Два клена, могучих, с обшарпанной и пористой корой; полынь, пожухлая, осенняя; чертополох, жесткий, еще крепкий; какая-то сорная неуемная трава… Я не отрываю глаз от земли и вдруг различаю узенький бугорок, крохи кирпича, чуть прибеленные известью. Конечно, здесь высилась печь! Вот здесь, у ее правого угла, лежал мой матрас, а там, где сейчас ржавая мокрая крапива, стояла на коленях мама.
Здесь было крыльцо. С какой порывистостью вбежала на него мама, зная, что в двух шагах ее больной сын!.. Слезы навертываются на глаза, и, чтобы скрыть их, я смотрю в сторону и спрашиваю женщин: