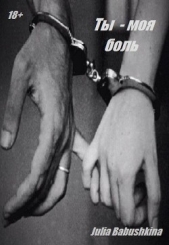Невидимый огонь

Невидимый огонь читать книгу онлайн
В прологе и эпилоге романа-фантасмагории автор изображает условную гибель и воскресение героев. Этот художественный прием дает возможность острее ощутить личность и судьбу каждого из них, обратить внимание на неповторимую ценность человеческой природы. Автор показывает жизнь обычных людей, ставит важные для общества проблемы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Молчание.
— Когда я звала ее ужинать, а она не пошла, я ей сказала: «Лелде, говорю, ты сегодня хоть что-нибудь ела?» Ела, говорит. Я спрашиваю — что. И знаешь, что она мне ответила?
— Ну?
— Семечки!
— Семечки?
— Да, тыквенные семечки.
Аскольд пожимает плечами.
— Не понимаю, Аврора, почему ты делаешь из этого чуть не трагедию. Моя бабка, правда, когда-то считала, что от тыквенных семечек заводятся глисты, но эта гипотеза, если не ошибаюсь, научно не подтвердилась.
Они смотрят друг на друга, он — за легкой усмешкой пряча досаду, что его отрывают, она — сомневаясь теперь, вовремя ли она завела этот разговор, именно сейчас, когда перед ними стопки тетрадей, но полная решимости поговорить о дочери, прийти к чему-то и действовать в согласии ли с мнением Аскольда, или вопреки ему, и Аскольд должен выслушать, найти время, уделить внимание, ведь он отец.
— Твоя ирония, Аскольд, совсем неуместна, — холодно говорит Аврора. — Глисты не глисты, но вообще… Кто знает, по каким они валялись карманам, какими руками их брали. Да еще в такое время, когда в Риге свирепствует грипп, который дает всякие осложнения…
— …как воспаление легких или менингит, не меньше, или того ужасней — брюшной тиф, эпилепсию или сифилис…
— С тобой невозможно разговаривать!
— Аврора, у меня еще пятнадцать сочинений, а на часах уже почти одиннадцать. В половине седьмого мне вставать. И поверь, у меня нет ни малейшей охоты пускаться в рассуждения. Тем более по вопросам, которые входят в компетенцию эпидемиологической станции.
Ну, что теперь? Продолжать в том же духе — вежливым тоном, не повышая голоса, обмениваться колкостями? Замолчать и в который раз смириться? Или поговорить прямо, без обиняков — начистоту, и будь что будет, так ведь тоже жить нельзя.
Она сама пугается своих мыслей; боже сохрани, только не это! Пока не перейден последний предел, за которым нет возврата и примирения, за которым ничего уж не поправить, не загладить, — только не это! Уж лучше неясность. Ведь кто-то же придумал эти слова — счастливое неведение? Пусть не всегда счастливое. И тягостное, и мучительное. И все же это лучше, чем жестокая, неумолимая правда. Лучше неясность — что там под повязкой, под пластырем, чем открытая рана.
Аврора испускает вздох и, нашаривая рукой очки, все еще с грустью глядит на Аскольда. Конечно — устал он за целый день; круги под глазами, в уголках губ морщины… волосы начинают седеть и редеть, особенно это видно при свете, на фоне лампы.
— Порой кажется, что ей даже не хочется идти домой… — говорит Аврора с тихой жалостью, как бы думая вслух.
Морщины по обе стороны его рта проступают резче, складываясь в странное выражение — не то в ехидную гримасу, не то в печальную улыбку. Кажется, вот-вот он с горьким смехом скажет: «В точности как и мне». Но нет, молчит, таким же шарящим движением находит на столе ручку, подвигает ближе тетрадь, склоняется над ней.
Разговор окончен. Ну, прояснил он что-нибудь? Стало что-то понятней? Сошлись они на чем-нибудь, договорились, что-нибудь решили? Или выводы надо сделать сейчас — после него?
Если бы не этот разговор, они проверили бы хоть по одной тетради: Аскольд — сочинение по «Временам землемеров», Аврора — домашнюю работу по геометрии.
Аскольд, видно, никак не сосредоточится — скрипит стулом. Всегда он так, когда работа не клеится: скрипит сиденьем, сам того не замечая, иной раз тупо вслушиваясь в ритмичный хруст, который вряд ли доходит до его сознания, как тиканье часов, и порой, надо полагать, его совсем не слышит. Может быть, это от нервозности, нетерпения? Или это способ спрятаться от других раздражителей за такой вот шумовой завесой? Когда ему скажешь, он очнется и какое-то время действительно не скрипит. Но тишина длится лишь до тех пор, пока он снова не наткнется на какое-нибудь прескверное место, и все начинается сначала. Чик, чик, чи-ик… Аскольд быстро расшатывает самый крепкий стул, приспосабливая его к своим привычкам. Размеренный скрип, который его успокаивает, Авроре мешает, так что им лучше бы работать в разных комнатах. Но так уж повелось, и Аврора втайне боится каких бы то ни было новшеств и перемен, которые могли бы ее с мужем разлучить, разделив хотя бы стеной их общего дома…
Нет, сегодня ему не работается — не прошуршит перевернутая страница, не ткнется в бумагу перо. Сколько можно читать одно и то же место? Что там такое необычайно важное, такое значительное, какие открытия, какие небывалые зерна мыслей рассыпаны на этой странице, небрежно исписанной косым беглым почерком?
Аскольд отодвигает стул, выходит в переднюю и возвращается с кульком.
— А ты? Не хочешь?
— Что там у тебя?
— Леденцы.
— Не надо, и так толстею.
Он не уговаривает, опять садится, насыпает из фунтика перед собой маленькую пеструю кучку, прямо на стол, прямо на полировку. Кидает один леденец в рот и вновь принимается за работу.
Будет скрипеть? Не будет?
Скрипит,
— Ну, дай и мне немножко, — соглашается наконец Аврора.
Аскольд молча указывает кивком на фунтик. Теперь отодвигает стул она, ногой нашаривает под столом куда-то ускользнувшую тапку. Подходит к столу Аскольда. Поднимет он голову, посмотрит? Не поднимает, не смотрит. Да и чего там смотреть. Кулек раскрыт — только протянуть руку.
Подойдя, она взглядывает на мужнин затылок — сквозь все еще волнистые волосы уже серовато светится кожа.
«Необратимые процессы старения, — вдруг думает она со странным удовлетворением, чуть ли не со сладким чувством мщения, пораженная демократичностью этих жестоких процессов, которые не признают исключений и перед которыми все равны, так же как перед смертью. Рядом с Аскольдом она всегда чувствовала себя обделенной, обойденной, несправедливо униженной — невзрачная жена красивого мужа, бесплатное приложение к толковому директору; она долго и упорно, порой отчаянно защищала свои завоевания, боясь именно старости и при всем при этом быстро, преждевременно и безнадежно старея. Но ей почему-то всегда казалось, что во внешности Аскольда ничто измениться не может, что его молодость и красота пребудут вечно — постоянные, неизменные, как у статуи Аполлона, стойкие и не подвластные времени; не будучи легковерной и наивной, она тем не менее в душе верила, что Аскольд будет исключением, на которое не распространяются, не могут распространяться законы природы, как они не распространяются на сверхъестественные существа.
II вот перед ней совсем рядом, в двух шагах, маячит взъерошенный, с проседью затылок, который неудержимо и неотвратимо редеет и с годами будет лысеть и сквозить все больше, лишний раз подтверждая, что богов нет и не может быть. И, словно вздыхая полной грудью после долгих и тщетных мучений, она обнимает Аскольда, приникает к его спине и, слыша сквозь одежду глухие редкие удары сердца, шепчет бессвязно и счастливо, как пьяная:
— Старичок мой… мой ты старикашечка… милый мой, дорогой…
Аскольд не говорит ни слова, только ощетинивается молча, как непривычный к ласкам пес. Но она все равно прижимает его и гладит, и голубит, не переставая сбивчиво и бессвязно бормотать нежные бессмысленные слова, в то время как на дворе что-то колотится, что-то стучит и трещит под ветром, не утихающим даже ночью, И теперь уж яснее ясного, что это к перемене погоды. К усилению мороза все это либо к оттепели.
«Только бы не к снегу!» — опять думает Аскольд, но, выйдя во двор, видит, что снег уже идет. Струится на ветру белыми прядями, крупными хлопьями — да, вот он опять, незваный, ненужный, непрошеный, непоседа такой, угомону на него нет, идет, сыплется среди ночи, когда все спят, несется и летит, хотя его и так полным-полно, конопатит и без того заделанные трещины и щели, тыркается туда, где уже давно нет места, набивается и скопляется и, как пена, падает через край, так что будильник придется ставить на шесть, чтобы успеть хоть как-то сладить, совладать с этой прорвой, которая валит с неба.