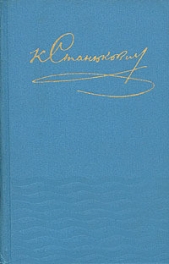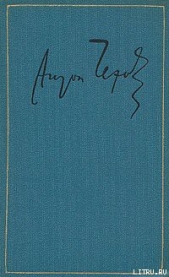Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы.
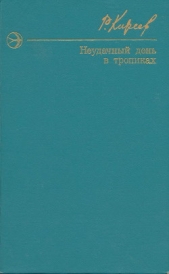
Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы. читать книгу онлайн
В новую книгу Руслана Киреева входят повести и рассказы, посвященные жизни наших современников, становлению их характеров и нравственному совершенствованию в процессе трудовой и общественной деятельности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я подумал, что сегодня же пойду к Лене в больницу.
Кроме нас с Леной, Антона и его стариков танцевали, кажется, все. Лена смотрела на них со взрослой снисходительностью. Отсеченная болезнью от общей молодой радости, самолюбиво изображала равнодушие.
— Будешь поступать куда? — спросил я.
— Конечно! — тотчас, с некоторым высокомерием, ответила Лена.
Не так надо было (спрашивать об этом…
— В медицинский?
Она удивленно посмотрела на меня.
— Откуда ты знаешь?
Я подумал и пожал плечами.
— Наверное, Антон сказал.
— Антон не знает. Никто не знает.
В её взгляде была требовательность, она ждала объяснения, а я не знал, что ответить ей. Я понятия не имел, откуда взял, что она собирается поступить в медицинский. Я ничего не утаивал, но под её взглядом чувствовал себя так, будто и впрямь скрываю что‑то.
Антон зажёг торшер, а люстру выключил. В полумраке мне было легче смотреть ей в глаза.
— Я не знаю, — повторил я (как можно искреннее. — Может, ты мне говорила?
Что : все‑таки скрывал я от нее? Способность предать человека, которого называл отцом?
Двигатель брал подъем трудно, в одном месте едва не остановились, но шофер со скрежетом переключил скорость, и мы поползли дальше. Справа, словно пологая лестница, поднимались друг за другом стандартные домики — раньше их не было в Алмазове.
В проходе между сиденьями возилась женщина. Она села в автобус последней, перед самым отправлением, и теперь заботливо устанавливала огромные свои корзины, прикрытые марлей.
Я снова обернулся. Я не увидел Шмакова, но мне казалось, что он все ещё машет вслед автобусу.
Водки больше не было, Шмаков стал открывать вино; жестяная закатка не поддавалась, я смотрел, как он мучается, и не хотел помочь ему. Тогда он бросил нож и принялся жадно сдирать заиатку зубами. Из поцарапанной губы засочилась кровь. Шмаков растер её по подбородку, налил в стакан вина и выпил его, не отрываясь. А я твердил себе, что это мой отец, он кормил и поил меня, ни разу не попрекнув меня в этом, и не он, а я предал его.
Я чувствовал, что сжимаю что‑то в руке. Это были деньги на билет. Я не помнил, когда достал их, — быть может, ещё в Алмазове.
— До конца, — сказал я кондуктору.
К Лене наклонилась мать, и я услышал, как она напоминает дочери, что ей пора отдыхать. Лена просительно сказала что‑то, но мать прибавила ласково: «Ты ведь сама знаешь», — и этого оказалось достаточно: она поднялась. Помешкав, протянула мне руку.
— Желаю удачи…
Я встал. Она не смотрела на меня.
— Мы можем выпить на дорогу, — сказал победитель своему поверженному сопернику. — Я захватил кое‑что. Три бутылки «столичной». Я вам оставлю.
Пятнадцатилетний человек, у которого портилось настроение от нечаянного пятна на белоснежной рубашке, даже не заметил омерзительности этих слов, их чудовищной паскудности — так поглощен он был желанием скорее улизнуть отсюда. Незаметно поглядывал он в окно — боялся, быть может, что такси укатит вдруг и они останутся здесь.
Лена была уже возле двери — я видел её тоненькую шею и лакированный модный пояс, такой широкий на её несформировавшейся талии — когда она остановилась вдруг и, лавируя между парами, вернулась ко мне.
— А тебе бы я все равно сказала, — быстро прошептала она. — Об институте. Что в медицинский…
И тотчас повернувшись, пошла обратно. Оживленная волнением, смущенная, с порозовевшим лицом — такою она и запомнилась мне.
Автобус вынырнул на шоссе и покатил легко и бесшумно. Лощина, в которой ютилось Алмазово, ещё некоторое время тянулась рядом.
Я подумал, что все кончено, я свободен. Проклятья, что так долго тяготело надо мной, не существует больше. Но странно, я не испытывал ни приподнятости, ни чувства освобождения.
Федор Осипович постучал в деревянную перегородку, разделяющую наши с ним комнаты, негромко окликнул меня и, когда я вошёл, деликатно отошел к окну, где сидела Вера. В распахнутой двери я увидел Таю. Она была в брюках и пушистом малиновом свитере. Я подошел близко к ней. Глаза её смеялись.
— Я вас приглашаю, — прошептала она. — На каток.
От нее по–домашнему пахло ванилью и печеными яблоками.
Последние месяцы мы виделись редко, я почти не заходил к ним, и Тимохин, смирившись с этим, по вечерам сам заглядывал ко мне.
— Я южанин, — сказал я. Я старался скрыть волнение и не смотрел на нее. — Я плохо катаюсь.
Она была в шлепанцах и глядела на меня снизу, подняв <брови. Одна бровь была немного опалена.
— И потом у меня нет коньков.
— Возьмёте напрокат. Если вы не пойдете, Миша расстроится.
Я внимательно посмотрел на нее.
— Почему Миша? Миша идёт?
-— Он не идёт, но он хочет, чтобы со мной пошли вы. Наверное, так ему спокойнее. Ведь на вас можно положиться? — спросила она с мягкой насмешливостью.
Я опять ощутил исходящий от нее домашний запах чистоты и ванили.
— Я сейчас оденусь, — сказал я.
Она дружелюбно кивнула и пошла к себе.
Переодеваясь, я думал об её опаленной брови, злился, что думаю об этом, но все равно видел, как она прикуривает от зажигалки в мужской руке.
То ли автобус шел тише, то ли слишком сильно пекло солнце — но мне казалось, что сейчас мы тащимся гораздо дольше, чем два дня назад, когда я ехал в Алмазово.
Шмаков поднялся и, шатаясь, стал читать монолог об умирающем лебеде. С отвращением и почему‑то со страхом ждал я коронных его слов: «И «плачет он, маленький лебедь, совсем умирающий». (Когда он с завыванием выкрикнул их, я успокоился. Я понял, что теперь не сорвусь, что выдержу, каким бы омерзительным ни был мой приемный отец.
Я переодевался, когда явился Миша Тимохин — с шерстяным зелёным шарфом и вязаной шапочкой.
— Ты с юга, — проговорил он. — У вас нет этого.
— Спасибо, я так, — буркнул я и достал из чемодана свитер.
— Как так? — не понял Миша. — Это специально для катка.
— Все равно… Не надо.
Впервые Тимохин раздражал меня — своей бескорыстной, вездесущей заботливостью. Быть может, я не мог простить ему опаленной брови? Я не ревновал к нему Таю, я ревновал за него, и это нелепое чувство злило меня.
— Почему ты сам не идёшь? — спросил я.
— Куда?
Его синие глаза глядели доверчиво и недоуменно. Стиснув зубы, я натягивал свитер.
— Куда не идёшь? —повторил Миша.
— На каток.
— Я устаю, Кирилл, — сказал Миша. — Я бы пошел, но я устаю.
Я посмотрел на его исхудалое болезненное лицо. Иконные лики напоминало оно. Я засмеялся.
— Зачем тебе все это? — Я кивнул на принесенные им вещи.
—* Ну, как же, Кирилл, шапочку обязательно надо иметь.
— Зачем? Ведь ты не катаешься. Зачем она тебе?
— Это же чистая шерсть, — удивленно проговорил Миша. — Ты обязательно надень. Разве можно без головного убора? Ты с юга, ты обязательно надень.
Я взял и шарф и шапочку. Все — стало вдруг легко и ясно. Существовал Миша Тимохин и его жена Тая, и мне не было дела до женщины с опаленной бровью и ненакрашенными невинными губами. Я знал, что никогда не сделаю ничего такого, о чем не смог бы рассказать Мише Тимохину.
Как и семь лет назад, монолог об умирающем лебеде завершил пьяное представление Шмакова. Он храпел на продавленном диване — в брюках и грязных матерчатых туфлях. К подошве в белых пятнах куриного помета прилипло перо. Он храпел с присвистом, приборматывал что‑то, так что даже не видя его лица, я ясно представлял себе, как шевелятся его сизые, в засохшей крови, губы.
И я смел осуждать мать за то, что она порвала с этим человеком! Я не мог себе простить, что вырвался вместе с ней из этой грязи — разве имеет значение, какой ценой было достигнуто наше освобождение!
Я заставил себя повернуть голову и посмотреть на Шмакова. Под куцыми безресничными веками белели узкие полоски глаз. В той комнате что‑то тихо зашуршало. Мышь… Осмелев, она царапалась и возилась и грызла что‑то. Я взял ложку и постучал ею по тарелке с хлебом. Все стихло, лишь противно храпел Шмаков.