Девочка и рябина
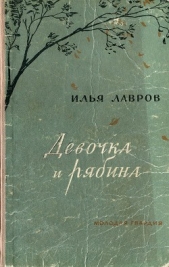
Девочка и рябина читать книгу онлайн
Илья Михайлович Лавров — русский советский писатель, член Союза писателей СССР (1956), литературовед, актёр.
Илья Лавров родился 2 августа 1917 года в городе Новониколаевске, закончил Новосибирский театральный техникум в 1936 году, работал 15 лет театральным актёром. Играл в драматических театрах Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Нальчика, Ферганы, Элисты, Читы. Первый рассказ был опубликован в 1952 году (журнал «Крестьянка»). Первый сборник рассказов «Ночные сторожа» вышел в 1955 году в Чите.
Его творчество выделяется своим тонким лиризмом, свойственным создаваемым Лавровым образам, чуткостью к внутреннему миру героев произведений и романтизмом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прибежал запыхавшийся Сенечка, стряхнул с шапки и пальто снег.
В клубах мороза входили в театр актеры.
В гримуборных столики покрылись коробками грима, книгами, париками, реквизитом.
На вешалках вдоль стен висели матросские рубахи с огромными воротниками, полосатые тельняшки, бушлаты, бескозырки с ленточками.
Один актер переодевался матросом. Белокофтин — немецкий офицер — повторял роль, Касаткин-боцман лепил из гуммоза нос-картошку. Смазав его вазелином, полировал пальцами. Рыжий анархист, макая в пудру заячью лапу, выбелил загримированное лицо, словно мукой.
Парикмахер надевал актерам парики, наклеивал усики. Стоял шум, смех. Пахло пудрой, гримом, эфиром от лака.
Скавронский подходил то к одному, то к другому, делал последние замечания.
Сенечка раскладывал по столикам «программы» с надписью и поздравлениями режиссера.
Все это Алеша любил, все это навеки родное.
Юлинька, уже загримированная, в кожаной куртке, в сапожках, волнуясь, осматривала себя в трюмо. Когда вышла на сцену, сердце ее дрогнуло — невидимый зал, переполненный зрителями, гудел. Хлопали стулья, раздавался смех, слышалось шарканье ног. Глаза у Юлиньки возбужденно блестели, она от волнения передернула плечами.
Зазвенел второй звонок.
Юлинька прошлась по сцене, постояла на мостике у орудия, ко всему примерилась, проверила реквизит, пошептала некоторые фразы из роли. Руки ее стали влажными, дыхание шумным. Притаилась в уголке, чтобы не отвлекаться.
Подошел Караванов, в бескозырке, в тельняшке, шепнул:
— Дайте руку на счастье.
Маленькая рука Юлиньки была ледяной.
— Ни пуха вам, ни пера. — Караванов на цыпочках пошел в другой угол.
— Куда же вы? Я волнуюсь, как дурочка! — Юлинька схватилась за его руку.
— Не надо. А то я забуду текст, — улыбнулся Караванов.
— Все на выходах? Юлия Михайловна, Роман Сергеевич, вы здесь? — шептал Сенечка, как всегда, в панике.
В зале выключили свет.
— Приготовились! Начинаю!
Вот загремела музыка. В ней мощь и скорбь, тревога и порывы битвы.
Юлинька положила руку на сердце, глубоко вздохнула. А за занавесом уже звучали голоса ведущих. От имени моряков революции они обращались к потомкам:
— «Здравствуй, пришедшее поколение! — Дальский стоял перед занавесом, выхваченный из тьмы прожектором, и протягивал руки в зал. — Бойцы не требовали, чтобы вы были печальны после их гибели. Ни у кого из вас не остановилась кровь оттого, что во время великой гражданской войны в землю легло несколько армий бойцов. Жизнь не умирает!»
И незабвенное время, время отца, дохнуло на Юлиньку. Она стала думать о том, что это Ленин послал ее к балтийским морякам. Она комиссар, должна выковать из отряда анархистов доблестный революционный полк. Как ее встретят? Утром она будто шла в рабочих колоннах по улицам родного Питера. И рядом шел отец. А вот сейчас вечер, и ей предстоит великое испытание. И она готова умереть. Или победить.
Уже медленно поплыл синий бархатный занавес. Прошелестел шумок, и наступила мертвая тишина. А вот уже звучит страстный отчаянный голос Караванова: «Никуда человек не доедет, а только ехать будет… Никто еще никогда никуда не доезжал к конечному. И сделал это открытие я, военный моряк Алексей!»
Юлинька снова положила руку на грудь, задохнулась…
Зал во тьме. Перед ним синеватая пустыня — даль наливается мраком. Эта пустыня дышит тревогой. Тяжелое серое орудие простерло над бронированной угрюмой палубой корабля грозный хобот-ствол. Палуба гудит, бушует. Это уже Не матросы, это орда анархистов. Они орут: «Опасность! Полундра! Назначен нам комиссар!» В толпу бьют два мощных прожектора. Свет мечется зеленоватыми пятнами.
И вдруг — совершается что-то невероятное, уму непостижимое: на фоне тревожного мрака и пустоты возникает хрупкая фигурка юной женщины. Толпа моряков ошалела. И это — комиссар?! Гимназистка — комиссар?!
Эта же мысль пронеслась у зрителей. Но мгновенное недоверие их погасло от глаз Юлиньки. Через миг уже люди следили только за ними. Глаза казались огромными, светящимися.
Толпа здоровенных моряков очнулась. Уже слышались грубые выкрики, уже хохотали, кривлялись, гикали перед комиссаром. А Юлинька спокойно молчала, поставив у ног потрепанный чемоданчик. Взгляд ее, твердый, пристальный, изучал каждого. Легким, воздушным движением поправила волосы. Пошла. Походка тоже легкая, но чеканная. И вся фигура и все жесты летучие, воздушные и вместе четкие, властные.
И в зале поняли — это мечтательница. И комиссар. И умница. Поняли это и доктор Арефьев в третьем ряду, и проводница с местного поезда в двенадцатом, и библиотекарша в седьмом ряду, и Санина учительница Зоя Михайловна. Понял начальник прииска Осокин, с морской рыжей бородкой, растущей от шеи. Он привез на премьеру рабочих. Поняла это и дочка его, пятнадцатилетняя красавица Линочка.
И только толпа матросов еще не поняла. И новый взрыв. Со всех сторон палубы несется орава.
В зале замерли. На миг зажмурилась проводница, перестала дышать учительница. Линочка уцепилась за руку отца, рабочие прииска, занявшие три ряда, подались вперед.
Как она обуздает эту банду анархистов?! Для них — ничего святого! Разорвут же в клочья!
— «Давайте, товарищ, женимся!» — гогочет Алексей.
завыл кто-то багровый и волосатый.
Кто-то расстелил простыню, загнусавил: «Чего ты смотришь? Ложись!»
Неожиданно из люка медленно вылез огромный, полуголый, в татуировке.
— «У нас не шутят», — зарычал он и бросился к Юлиньке.
В зале ахнули.
— «У нас тоже, — просто и твердо проговорила Юлинька. Взлетает ее легкая, но беспощадная рука, и раздаются два сухих, деловитых выстрела, как две яростно-спокойные, злые пощечины. Гигант валится. — Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? — уже совсем просто звучит голос Юлиньки. Но глаза ее стали еще огромней. — Ты? Ты? Ты?» — поводит она револьвером. И толпа, затихшая, смятая, смущенная, отступает, рассеивается.
А в зале гремят аплодисменты. Там уже приняли этого комиссара.
Но здесь, на корабле, еще вся борьба впереди. Здесь она только испугала, но не завоевала.
В зале — свои страсти. На сцене — свои. А за кулисами — свои.
Стоя у сукна и прижимая к груди пьесу, Вася Долгополов не спускал глаз с Юлиньки. Он в дешевом бумажном костюме, некрасивый, застенчивый. У него нежные, голубые глаза, которыми все восхищаются. Долгополов навсегда влюбился в театр. Он окончил ветеринарный техникум, а работал суфлером и выходил в «массовках». Иногда ему давали роль из двух-трех фраз. Счастливый, он волновался, все время репетировал в уголках, но, выйдя на сцену, едва выговаривал эти фразы. Он был бесталанный и робкий.
Сейчас он смотрел на Юлиньку обожающими глазами — и больше для него никого не существовало.
А рядом с ним стояла Полыхалова, загримированная старухой, повязанная платком, в дырявом салопе. Она тоже не спускала глаз с Юлиньки. Крылышки носа напряглись и мелко дрожали. Она вся клокотала. Ведь она создана для роли комиссарши! А ей сунули какую-то старуху! Противно! Бежать из этого театра! Чем она хуже Сиротиной? Ее била лихорадка зависти.
Скоро выходить на сцену. У старухи украли кошелек. Анархисты устроили самосуд: утопили матроса, обвинив в воровстве. Тут же старуха обнаружила кошелек в кармане: тогда должны утопить и ее.
Актриса спохватилась — кошелька не было. Она бросилась в реквизиторскую. И уж тут отвела душу.
Словно угорелая, Шура металась по цеху. Рылась то в одной куче театрального хлама, то в другой, то бросалась к полкам. На пол летели букеты бумажных цветов, жестяные вазы, розовый поросенок из папье-маше, прикрепленный к такому же блюду, ватные кисти винограда, круги колбасы, набитые опилками, покатился череп, загремел деревянный торт.

























