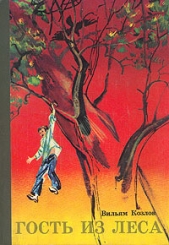Бруски. Книга II

Бруски. Книга II читать книгу онлайн
Роман Федора Ивановича Панферова «Бруски» – первое в советской литературе многоплановое произведение о коллективизации, где созданы яркие образы представителей новой деревни и сопротивляющегося мира собственников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
7
На общем дворе ударил колокол. Сначала ударил три раза медленно, словно раскачиваясь, потом часто, вприпрыжку закидал в утреннюю свежесть свой металлический зов.
– Нас ведь зовут, бабы, – Анчурка Кудеярова поднялась, отряхнула платье. – Нам бы сто часов спать, и то не выспимся, пра. Ведь всю жизнь на ногах, Катя, вставай.
– Товарищи! – позвал Степан. – Бабы пойдут за жатками рожь вязать, а мужики – конюшни ставить. Всем около жаток делов нет.
– Эх, Степан Харитоныч, на то мы не уговаривались, чтоб конюшни ставить, – проговорил младший племянник Чижика, Петр.
– Давай, все сделаем, – с упреком глядя на Петра, сказал Чижик. – Давай, давай!
– Через ворота! Через ворота! – закричал Николай Пырякин и, шагнув, затянул завывающим голосом: «Мы жертвою пали» – и тут же оборвал. – Аль не то? Не то, не то, товарищи! Не то! Ну, какой тут смех? И эта песня за сердце берет. Так вот я другую. – Он прокашлялся, но запеть уже не смог. – Шлёнка! Запевай! Сорвалось у меня пес возьми!
Шлёнка расправил грудь, вышел вперед и баском ударил:
– Вста-авай, про-оклятьем…
Вразнобой подхватили мужики, бабы. Пели путано, с выкриками, с визгом… Пение напоминало мотив какого-то церковного псалма… Но шли твердо, крупным шагом. И не успели до конца пропеть «Интернационал», как прошли ворота. Допевая, разделились на две партии: одна тронулась под уклон, другая в общий двор, к сосновым бревнам.
Впереди всех, рядом с Катей Пырякиной, шла Стеша.
– Мой-то, – заговорила Катя, – спутался, как запел. Вечор, когда пришли с собрания, с час, чай, все налаживался… а тут спутался. Вот посмеюсь теперь над ним. Он иной раз дома так затянет. Я ему и говорю: «Брось, мол, Коля, людей перепугаешь. Что ты, мол, как мирской бык?» А он мне свое: «Я теперь, слышь, не мужик, а тракторист – вроде рабочий. Ну, попаду когда к рабочим, а петь не умею». Вот и орет, и орет. А нонче смешался… – Она неожиданно тихо качнулась, прикладывая руку к сердцу, и, бледнея, передохнула, тихо прошептала, глядя куда-то вдаль, точно около нее никого не было: – Вот и хорошо… Хорошо-то как, а…
Стеша кинулась к ней.
– Катька! А ты никак родить хочешь?
– Угу… А то как же? Чай, коллективу работники нужны… Чай… это… – и Катя побежала быстрее под уклон.
– Ух ты, дьявол, а молчала, – упрекнула ее Стеша.
– Молчала?… Чай, об этом не кричат всем? – проговорила Катя и тут же подумала: «Ничего-то Стешка не – Какой месяц пошел?
– Третий, – солгала Катя и поняла, что с этого момента ей придется многим лгать, скрывать от многих то, что лелеяла она по ночам, лежа в постели рядом с тощим, всегда потным Николаем.
Стеша в первый раз обняла Катю и, что-то нашептывая, пошла с ней к жаткам.
У Кати синева появилась под глазами, быстрый шаг пропал: она шла в ногу со Стешей, а ступала осторожно, ровно под йогами не пожелтевшая трава стелилась, а разбросанные горячие уголья. И спина у Кати чуть откинулась, но ядреностью, здоровьем наливалось, набухало тело, и в глазах горел яркий осенний день.
– Мальчишку бы, – шептала она. – Ты вот испытала… Как?
– Говорят, ежели первый раз в правом боку повернется – мальчишка, в левом – девчонка. Ты как?
– И-и, и не помню. Обезумела, как почуяла. Побежала сказать Коле, а он, помнишь, и трактор в поле бросил. Ругал его тогда Степан Харитоныч, а он только смеялся на это. Я ему: «Зачем, мол, смеешься? Рассердится Степан-то?» А он мне: «Ежели бы, говорит, Степан Харитонович узнал, отчего я трактор бросил, он расцеловал бы тебя в маковку». Ты только, Стешенька, никому ни гу-гу. А то сглазить могут. – Катя зарделась.
Бабы перешли ложбину. В долине дозревала рожь.
– Становись! – Николай Пырякин, пристально посмотрев на Катю, ласково погрозил ей пальцем и пустил трактор.
Яшка прицепил жатку ко второму трактору, взобрался на сиденье. Бабы – разноцветные: синие, голубые, зеленые, маковые косынки – стали в ряд. Три жатки – две за трактором, одна за тройкой лошадей, – три большие гребенки двинулись от дороги, затрещали, пугая перепелов и земляную мышь. Захрупала рожь и кучечками запрыгала с жаток на ровно подстриженное жнивье.
– Запевай! Эй, бабы, запевай! А то коня остановлю, – пригрозил Николай.
Вязали за жатками снопики, такие же пышные, как Катя, и веселая песнь стелилась над Волгой, неслась в луга и останавливала каждого, кто шел мимо.
Захар Катаев, без шапки, развевая волосы, торопливо подошел к воротам.
– Запоздал, – сказал он с грустью, – провозился со своей артелью.
Во дворе, золотясь на солнце сосновыми бревнами, высилась конюшня. На конюшне, точно муравьи, копошились мужики, а на самом верху маячил Степан… За правым же клином в долине хрупали жатки, переливалась бабья песня.
Захар взъерошил волосы и на бегу, не выдержав, крикнул:
– Ух, отряд-то какой!
– Захар! Захар! Министерская твоя башка! – позвала, смеясь, Анчурка. – Иди к нам. К нам иди… Мужиков у нас маловато. Нам хоть тебя.
Захар подумал, потом быстро перебежал ложбинку, и тогда еще один густой, хриповатый голос врезался в общую песню.
Все это с горы из дубового парка видел Сергей Огнев. Ему самому хотелось пойти и стать в ряды жнецов, но на это он не решился, в чем потом и раскаивался не раз.
Звено третье
1
Из расщелин ноздрястого каменистого обрыва бегут прозрачные, холодные ключи. На обрыве растут липы, своими кудрявыми лапами они царапают каменистую лбину и большими лохматыми птицами покачиваются над Бездонным озером. Против озера, в скале, из-под красного камня таращатся черные зевы – ходы в пещеру. По преданию, в этой пещере жили семь братьев-разбойников. Именовались братья «царями»: чеканили они звонкую монету и сплавляли на Волгу.
Митька Спирин, макая кусок ржаного хлеба в воду, думая о братьях, совсем забыл о том, что рядом с ним сидит его жена Елена. Он медленно жует хлеб, мигает и тихо бормочет:
– Деньжищев, чай, у проклятых сколько было…
– У кого? – спросила Елена.
– У тебя! – Митька огрызнулся и, стряхнув с колен крошки, вскочил. – Идем! Расселась!
Гремучий дол – старинный дол. Гремучий дол зарос крапивой и репейником. Наверху по склонам гор тянутся березы, топырятся дубы. Широким обхватом лап дубы сплетаются над долом, укрывая в низине от солнца крапиву и дикую малину. В низине, разрезая заросли крапивы, бегут ключи, собираются в ручейки, растут, ширятся и гремят звонко. Рядом с речкой вьется тропочка.
По утоптанной тропочке несется с кувшином в руке Митька Спирин на Козырьки – семь верст. Следом за ним спешит Елена, переваливаясь, как утка: не успела Елена похоронить первого ребенка – Васятку, как уже стукнулся второй.
Елена невпопад тыкала ногами, не чувствуя их, а Митька злился. Он с легкостью борзого кобеля перепрыгивал через канавки, рытвины, бормотал:
– На Козырьках пшеница непременно под серп. Это у Кулебякского родника подкузьмила – за волосья пришлось драть. Сволочь! Рыжий черт, Никита, собака его заешь, напахал. Себе-то, небось, землю в пух разделал, а мне – огрехи да комья. Жалко, на поливе черту лопаткой башку не снес.
– Чего?
– Жалко, мол, Никите Гурьянову на поливе башку лопатой не снес. Ничего бы не было – в драке, мол, и все… Вон за Пашку Быкова никого в суд не потянули…
С Елены лил пот – крупный, соленый. Тянуло лечь под куст в траву и уснуть крепко, непробудно. Она крепилась, шире ставила ноги, стараясь не сбиться с узенькой тропочки, а ноги тыкались, как деревяжки.
…И Гремучий дол со своей прохладой, со своими колокольчиками, песенками остался позади… А ведь это был тот дол, где она впервые поцеловала Митьку…
Выйдя в поле, Елена и Митька увидели, как недалеко от опушки, Плакущев на клину дожинал загон. Рядом с ним Зинка – кургузая, в серенькой юбке.
– Во-он Плакущев – жнет. Сроду, чай, не жал, а вишь, и его приперли. И эта – Зинка. Соломенная вдова. Кирька-то теперь с Улькой, поди-ка, в городе мармалад едят.