Камень-обманка
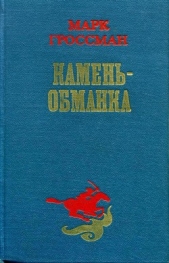
Камень-обманка читать книгу онлайн
Роман повествует о бурных событиях, происходивших в годы гражданской войны на Урале и в Сибири. Печатается в сокращенном варианте.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Колчак подумал о том, что подобные письменные свидетельства оставляют после себя лишь мелкие сошки, не умеющие изложить дельную мысль подобающими словами, но тут же наткнулся на приказ одного из своих ближайших помощников, генерала ставки Сахарова.
№ 687
ст. Петухово 12 сентября 1919 года
…Пункт 10-й. В случае проявления единичного предательства со стороны граждан, виновных немедленно, без суда расстреливать на месте, имущество преступника конфисковать в пользу казны или уничтожить. При массовом предательстве местного населения или укрывательстве большевиков-предателей — селение немедленно окружать и виновных, выданных жителями, немедленно расстреливать на месте, а их имущество конфисковать или уничтожать; в случае отказа от выдачи виновных — расстреливать заложников или жителей через десятого. В случаях массового выступления жителей с оружием в руках против армии такие населенные пункты немедленно окружать, всех жителей расстреливать, а самое селение уничтожать дотла.
Дочитав приказ, Колчак несколько минут сидел не двигаясь и закрыв глаза.
«Воистину «Бетонная голова»! — думал он о Сахарове. — Ну, что это за фразы, черт бы его побрал! — «массовое предательство», «массовое выступление»! Мог бы сообразить, дурак: предает не масса, предают массу.
Однако он тут же покачал головой и криво усмехнулся. Все эти приказы и сотни им подобных — суть его собственные мысли, и он ругает Сахарова и Томашевского вовсе не за смысл распоряжений, а всего лишь за форму и безграмотность их бумаг. Колчаку не составляло труда вспомнить свои собственные приказы, речи и письма, в которых он называл своих соотечественников «домашними свиньями», а свой народ «обезумевшим, диким, неспособным выйти из психологии рабов».
Вероятно, именно эти мысли верховного правителя имел в виду какой-то врид начштаба 1-й отдельной Самарской стрелковой бригады, дислоцированной в самом сердце горнозаводского рабочего Урала, в Миньяре. В приказе, датированном 10 января 1919 года, штабист учил своих подчиненных:
«Таких лиц, которые совершают свое гнусное дело из-за угла, часто можно определить по лицу, по его социальному положению, стоит только внимательно всмотреться».
— Господи! Болван на болване! Теперь любой член Следственной комиссии и суда скажет на допросе: «Вы очень ясно, господин адмирал, определили своих врагов. Простое лицо — в кутузку! Рабочий — к стенке! Мужик — в плети его!»
Да… нелегко будет ему от этих сокрушающих вопросов!
Он взял новую страницу. Это был длинный список, состоящий почти из одних цифр и названий. Досье перечисляло города, села, станицы — и число арестованных, выпоротых, расстрелянных там жителей. В Екатеринбургском округе выпороли двести тысяч крестьян — каждого десятого жителя. В Златоусте, небольшом, рабочем городе, в первые же дни белой власти арестовали две тысячи человек, в Челябинске к ноябрю восемнадцатого года — три тысячи. В челябинской контрразведке рабочих вешали вверх ногами, зажимали дверями и клещами кисти рук. В пермской тюрьме, рассчитанной на четыреста пятьдесят пять заключенных, томилось девятьсот два человека, в екатеринбургской — восемьсот сорок восемь вместо шестисот пятидесяти. Рядом со взрослыми сидели дети.
Захватив Шадринск, его армия принялась огнем и железом выжигать «красную заразу». Тюрьмы были забиты людьми, под камеры приспосабливались частные дома, прокатилась волна бессудных расстрелов. В сырых и вонючих застенках томились две тысячи рабочих, крестьян, учителей. Потом, накануне ухода белых из города, их выводили группами по двадцать-тридцать душ, связывали попарно и гнали под штыками в лес. Там казаки рубили пленников, кололи винтовками, забивали прикладами.
Из братской могилы, кое-как присыпанной землей, торчали сотни рук, ног, голов. Все вокруг было изрыто и залито кровью.
В том же Шадринском уезде у крестьян отобрали всех лошадей, жителям села Муратовки не оставили ни одного фунта хлеба, вымели сусеки подчистую.
В село Ивановское Белебеевского уезда казачью сотню привел бывший владелец местного имения, реквизированного Советской властью. Он расстрелял каждого пятого жителя и дотла спалил село.
Бывшее имение Вороновых того же уезда захватил отряд Каппеля. Сыновья помещика, узнав, что их дом отдали под школу, выпороли нагайками всех детей, изнасиловали учительницу, а крестьян от мала до велика объявили вне закона и чуть не всех уничтожили.
В Кизеле устроили публичную порку учительницы, заподозренной в принадлежности к комсомолу.
У села Тургояк Троицкого уезда зарубили и бросили в шахты девяносто рабочих, увезенных из Карабашского завода. К сообщению был приложен акт, из которого следовало, что на место казни пригласили иностранцев, и те, в числе прочих свидетелей, подписали документ.
В акте говорилось:
«Ни одного трупа нет без признаков ужасных, мучительнейших истязаний. Следы сабельных и штыковых ударов, ударов нагаек, содранная кожа, сплющенные лица, отрезанные уши и носы, отрубленные конечности; кандалы и веревочные петли имеются на каждом из осмотренных трупов, с коих сделан фотографический снимок. Никому из присутствовавших иностранных подданных ни разу не приходилось видеть следов подобных пыток и убийств».
Читая эти документы, Колчак морщился, часто курил, но пока не испытывал ужаса: всегда можно сказать, что коммунисты сгустили краски, свалив в кучу случайные эпизоды. Но вот ему попался иной документ — и страх в его сердце смешался со злобой. Это было Обращение Центрального областного бюро профсоюзов Урала к властям, к его властям, отправленное из Екатеринбурга в Омск четвертого сентября восемнадцатого года. Лидеры бюро, весьма далекого от большевизма, легально работали в столице Урала и тесно сотрудничали с чехами.
Профсоюз жаловался в Омск:
«Вот уже второй месяц идет со дня занятия Екатеринбурга и части Урала войсками Временного Сибирского правительства и войсками чехословаков, и второй месяц граждане не могут избавиться от кошмара беспричинных арестов, самосудов и расстрела без суда и следствия. Город Екатеринбург превращен в одну сплошную тюрьму: заполнены почти все здания в большинстве невинно арестованными. Аресты, обыски и безответственная, бесконтрольная расправа с мирным населением Екатеринбурга и заводов Урала производятся как в Екатеринбурге, так и по заводам, различными учреждениями и лицами, неизвестно какими выборными организациями уполномоченными…»
Адмирал зло усмехнулся. «Мерзавцы! Сочиняют послания, попадет в печать, за границу, в Америку… Да…»
Перечитывая письмо, он вдруг обратил внимание на дату и с облегчением подумал, что бумага написана еще до его приезда в Омск. Но тут же махнул рукой: в конце восемнадцатого и в девятнадцатом было еще хуже.
Четвертого мая девятнадцатого года он получил доклад главного начальника Уральского края Постникова о беззакониях и насилиях казачьих офицеров. В копии документ был послан Будбергу, не отказавшему себе в удовольствии тотчас спросить у адмирала, какое впечатление на него произвел «кровавый реестр»?
Этот ходячий скелет, раскрашенный старостью и болезнями в черно-зеленый цвет (так генерал аттестовал себя сам), не раз отравлял настроение подобными разговорами. Много позже, в конце сентября девятнадцатого года, Будберг, тогда уже военный министр, зашел к верховному и, против обыкновения, долго молчал, морщась от папиросного дыма, витавшего над адмиралом, и покашливая в платок.
— Ваше высокопревосходительство, — наконец заговорил он негромко и грустно, — я не стану осведомлять вас о наших ближайших сподвижниках и друзьях. Вы и без меня знаете, что Лебедев и Сахаров — кретины, которым апломб заменяет знания и опыт, что генерал Андогский — демагог, болтавший о величайшей маневренности наших войск, будто бы проявленной под Челябинском, что Иванов-Ринов и Гривин — трусы и позёры, которые, я нисколько в этом не сомневаюсь, бросят нас при первой же серьезной опасности, и так далее.


























