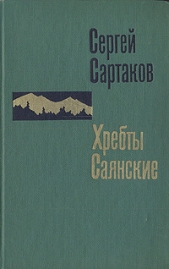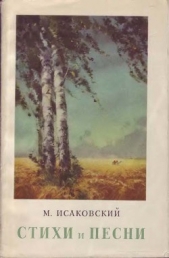Горный ветер. Не отдавай королеву. Медленный гавот

Горный ветер. Не отдавай королеву. Медленный гавот читать книгу онлайн
Повести, вошедшие в настоящую книгу, связаны между собой: в них действуют одни и те же герои.
В «Горном ветре» молодой матрос-речник Костя Барбин, только еще вступает на самостоятельный жизненный путь. Горячий и честный, он подпадает под влияние ловкача Ильи Шахворостова и совершает серьезные ошибки. Его поправляют товарищи по работе. Рядом с Костей и подруга его детства Маша Терскова.
В повести «Не отдавай королеву» Костя Барбин, уже кессонщик, предстает человеком твердой воли. Маша Терскова теперь его жена. «Не отдавай королеву, борись до конца за человека» — таков жизненный принцип Маши и Кости.
В заключительной повести «Медленный гавот» Костя Барбин становится студентом заочником строительного института, и в борьбу с бесчестными людьми вступает, уже опираясь на силу печатного слова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Два — тем, что читал я Маяковского «Стихи о советском паспорте» очень плохо — орал, а не читал, все смеялись, и Маша смеялась, а Шура вызвалась помочь мне их отрепетировать. И стала сама читать эти стихи. Голос у нее против моего как самая нижняя струна на гитаре против самой верхней. А слова прямо насквозь пронизывают тебя. Любопытно получается. Про бюрократизм, к примеру, она выговорила строчку так, будто действительно она волк — возьмет и выгрызет. Мне показалось, будто я слышу: у Шуры щелкнули зубы. Насчет мандатов сказала с каким-то презрением. Пальцем даже не пошевельнула, а я вдруг увидел, как она их со стола сбросила. Чертей с матерями вовсе замяла (а я на чертей больше всего нажимал), зато слова «Но эту…» так она вылепила, что, не поверите, почувствовал я у себя в руках краснокожую паспортину. Словом, не стихи прочитала Шура, а полную картину нарисовала, как Маяковский гордо нес свое звание гражданина Советского Союза. И я обозлился на Шахворостова — зачем он высмеивал талант у Шуры. И, главное, понял, какой бесталанный оболтус я сам.
Три — тем не понравилась репетиция, что Фигурнов читал на память рассказ «Поженились» какого-то Евгения Стряпушечкина, в котором вышучивается парень один: увлекся случайной знакомой и потерял чудесную девушку, своего лучшего друга. Рассказ несмешной и неправильный, потому что в жизни все бывает как раз наоборот. К примеру — у нас с Машей. А Маша почему-то настояла, сказала:
— Евгения Стряпушечкина в программе нужно оставить.
Четыре — тем, что сама Маша взялась разыграть какой-то скетч. И ясно — с Леонидом! Правда, первый предложил это он, но ведь Маша могла и отказаться. Могла бы спеть одна «Позарастали стежки-дорожки…». От этой песни у меня на глазах всегда прямо слезы навертываются.
В общем этот рейс мог бы быть превосходным, как и все мои прежние рейсы по Енисею, если бы… Вот тут и штука: что — «если бы»?
Стою у окна Машиной каюты. Тихо. Наверно, спит. Хотя и удивительно: природу она очень любит. Будет потом сожалеть, что проспала Кораблики. И потянулась рука у меня сам не знаю как стукнуть в окошко. Прислушался. Вроде бы шорох. Что-то спросила Маша. И снова тишина. Я стукнул еще. И вдруг вижу: с мостика спускается Леонид. От лесенки ему только сюда — в другое место идти некуда, капитанская каюта на противоположной стороне. Не знаю, как поступили бы вы, а я ушел, прямо-таки убежал раньше, чем Леонид понял, почему я здесь. Вы представляете картину: на мой стук Маша подымает жалюзи, а под окном мы с Леонидом, как два испанских кабальеро…
Быстренько-быстренько завернул я на корму.
— А, мой союзник!
В плетеном кресле сидит опять тот же, со шрамом на щеке, инженер из экспедиции. Нога закинута за ногу, кисти рук сцеплены на колене.
— Тоже природой любуемся, молодой человек?
— Я на вахте, — говорю ему. И как-то вовсе не до него мне.
— Ах, вот как! А мне давеча показалось, что к Енисею ты очень неравнодушен.
— Енисей-то пуще всего на свете люблю я.
— Ну, вот это уже через край. — И глаза у него стали какие-то озорные. Тянет меня за руку, не дает пройти, усаживает в пустое кресло рядом с собой. — Не беги. Сядь. Ночь-то какая чудесная! Только для влюбленных. Да-а! Енисей… А я так полагаю, парень, что для тебя сейчас не Енисей лучше всего на свете, а девушка одна.
— Ошиблись вы, — говорю, — нет у меня такой девушки.
— Ну-ну! Не верю! Сам видел вчера, как ты вспыхнул, когда товарищ твой отозвался о ней неуважительно. А ты — Енисей… Для меня вот Енисей действительно теперь вся отрада в жизни. Спросишь: почему?
Он задумался, поскучнел, и это сразу как-то отозвалось и во мне. Понимаете — одинаковым настроением. Мы сидели рядом, оба молчали, но было это как самый душевный разговор. Мне вставать уже не хотелось. Сам не знаю, как, а я угадывал: чем-то полюбился я этому инженеру. Он тихонько перевел дух, подтянул меня поближе.
— Да, вот так, парень: жили, жили счастливо, а потом… пришла смерть в семью мою. Один раз. Второй. Третий. Да и в четвертый. И остался, парень, я один в свои шестьдесят два года. Не всех сразу безглазая скосила. А то и мне бы не выдержать. Перенес. Живу. — Потер ладонью лоб. И опять глаза у него повеселели. — А хороша штука — жизнь! И молодость. И любовь. Для меня в моей молодости самым драгоценным в мире была моя девушка, потом — жена. Для нее текли и все реки и солнце светило. А у тебя разве не так?
Показалось, испытывает он, проверяет меня.
— А работа? — говорю. — Производство?
— Что работа? Дорогой мой, как легко работалось мне тогда! О, вот тогда я действительно мог сдвигать с места горы. Для нее, для нее! Ах, какая это великая сила — любовь!
— По-вашему, — опять говорю, — любовь прямо сильнее всего. «Для нее, для нее!» А по-моему, так для родины, для государства прежде всего должен работать и жить человек.
Бурлит вода за кормой, утесы с боков все теснее сдвигаются. Лицо у инженера сделалось усталое. И руки обмякли, сухие, длинные на коленях лежат.
— Вот как! Оказывается, поймал тебя, Иван Андреич, молодой товарищ на слове. Поправил старого большевика. Забыл ты, выходит, родину. На девушку, на любовь ее променял. — Потрогал свои седые подстриженные усы. — Ехал, парень, по Красноярску я в автобусе. И вот кондукторша тем пассажирам, у которых нет мелочи, продает билеты кругленько по рублю, хотя проезд стоит, скажем, только сорок пять копеек. Нет, нет, в карман себе разницу она не откладывает. Честно отрывает на рублевку билеты и разъясняет: «Граждане, платите без сдачи. Не можете? Ну, я не виновата. У меня тоже мелочи нет. Бесплатно везти вас я не имею права. Не шумите. Если вы против тарифа сейчас переплачиваете, так эти деньги, к вашему сведению, идут не мне, а государству». И ведь, знаешь, притихли пассажиры! Разве жаль отдать родному государству полтинник? Хотя, ты сам понимаешь, государство не возьмет со своих граждан даже одной лишней копейки. В этом и смысл, один из важнейших принципов нашего государственного строя. А вот такие правоверные кондукторши именем государства отбирают у нас очень многое, отбирают порой даже то, что является целью существования самого государства, то есть наше счастье, те основы, из которых складывается честная и чистая, общественная и личная наша жизнь. Вот ты сейчас противопоставил любовь, семью, человеческое счастье родине, государству… Парень, да ты знаешь ли, что такое любовь? Да ты читал ли об этом, к примеру, хотя бы у Энгельса? Или ты только слушал кондукторшу из автобуса? Прошлый раз ты мне заявил, что на всю жизнь останешься только рядовым матросом. И тоже ради государства. Неправильно ты понял, парень, свои отношения с государством…
Как тут сразу скажешь: прав он или не прав?
Старый большевик, инженер, жизнь повидал и вообще умница. Притом Энгельса я действительно не читал. Ну, может быть, отдельные цитаты. Так были они совсем не к нашему разговору. А что к нашему? У Энгельса-то вместе с Марксом о-го-го сколько написано! Попробуй все прочти. Так что насчет своих отношений с государством, пожалуй, правду сказал Иван Андреич, ничего я не знаю. Просто не представляю. Живу, работаю, душе полная свобода. Чего еще? Будто и ясно, а из всех этих мыслей и слов, как на токарном станке формулу не выточишь.
В общем вид у меня был, наверно, довольно-таки глупый. И наверно, Иван Андреич понял, что я вовсе запутался.
— Ты, — говорит, — парень, не жди от меня пунктов и параграфов. Ну их к черту! Мне параграфы эти в инструкциях надоели. Вообще, скажу я тебе мимоходом, молодежь сейчас почему-то больше, чем мы, старики, любит разговаривать формулами. Вижу, и ты ловишь старика, ждешь моей формулы насчет родины, государства, любви. Под какими, дескать, пунктами, номерами я все это расставлю. Друг мой, не будет номеров. Все это единое, цельное. Неужели ты сможешь сказать любимой девушке: «Ты самая лучшая в мире после нашего государства?» Или: «Я буду любить тебя, но меньше родины?» Вот ведь до чего можно дойти с такими формулировками, как у кондукторши из автобуса! Гляжу я на тебя, парень, и твердо знаю: никогда не станешь ты предателем родины. Крепка и сильна у тебя любовь к ней. Верю и в другое: не изменишь ты и любимой девушке. А впрочем… Не потому ли ты и номера подставляешь, что считаешь: девушка не родина, не государство — ей изменить можно?