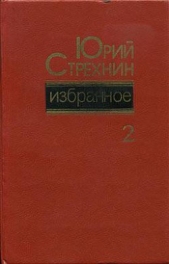Избранное в двух томах. Том I

Избранное в двух томах. Том I читать книгу онлайн
В первый том избранного вошли произведения, главенствующей темой в которых является — защита Отечества.
В романе «Завещаю тебе» и повестях «Вечный пропуск», «Знамя», «Прими нас, море» созданы интересные образы солдат, матросов, наделенных высоким чувством долга, войскового товарищества, интернационализма.
Издание рассчитано на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В чем-то, наверное, надо поучиться у птиц. Как заботливо пестуют они птенцов, пока те в гнезде! Но они не препятствуют им покидать гнездо, когда те почувствуют, что у них окрепли крылья. Могучий и верный инстинкт побуждает птенцов начать пробовать свои силы в полете именно тогда, когда их крылья становятся надежными. Но у человеческих птенцов кроме инстинкта есть еще и разум. Так почему же за них надо опасаться больше и хватать за хвост, когда они пытаются шагнуть из гнезда в заманчивое, неизведанное пространство?
Глава четвертая
ПИСЬМА
На фронте кое-кто из товарищей-однополчан иной раз удивлялся, бросив взгляд на мою спутницу — полевую сумку: «Почему она у тебя такая толстая, что ты в ней прячешь?» Я отшучивался: «Секретную документацию».
Но, как известно, хранить при себе без особой надобности служебные бумаги в боевой обстановке не полагалось, тем более секретные. А сумка моя была толста от словаря, необходимого мне, когда приходилось читать захваченные у немцев документы, и вот от этих писем, которые я берег всю войну, писем Рины. Сейчас они вынуты из сумки, где хранились все послевоенные годы, стопочкою лежат на столе. Поздняя ночь. Тихо. Так тихо, что тиканье настольных часов, стоящих передо мной, резко отдается в ушах, и я отодвигаю часы от себя подальше, на противоположный край стола.
Письма… В самодельных конвертах — в военную пору и конверт был проблемой. А некоторые и вовсе без конвертов, сложенные пакетиком, как свертывают бумажки для аптечных порошков. Что ж, эти письма в войну были своего рода лекарством. Душевным лекарством, придающим бодрость, улучшающим общее самочувствие. Письма моей жены. Если очень прислушаться, можно уловить ее ровное сонное дыхание — полураскрытая дверь спальни в двух шагах от меня. Рине и невдомек, что в эту минуту я возвращаюсь к далеким дням нашей военной разлуки.
На каждом из писем, что лежат передо мной, мой фронтовой адрес, полевая почта номер 33387, и жирный штамп военной цензуры. Полевая почта номер 33387. Этот адрес не менялся у меня всю войну — до самого дня Победы я прослужил в одном стрелковом полку. И всю войну по этому адресу шли письма Рины. Я не выбросил и не потерял ни одного из них. Получив очередное письмо, хранил его в кармане гимнастерки, читал и перечитывал, пока не приходило следующее, — тогда много раз прочитанное письмо я прятал в сумку, присоединяя к тем, что уже давно находились там. И вот к концу войны скопилась довольно плотная пачка писем, — я уже начинал подумывать, куда бы их переложить. Когда после войны вернулся к Рине, мы несколько вечеров подряд перечитывали друг другу свои письма — она мои тоже сохранила, все до единого. Читали и вспоминали дни, годы, месяцы разлуки… Нам было что вспомнить. А потом я перевязал письма бечевкой и снова спрятал в сумку, на прежнее место, где они хранились все годы войны. Так они и пролежали нетронутыми много лет. Правда, был момент, когда мне хотелось сжечь эти письма, сбереженные во всех боях и походах. Да, сжечь… Но сейчас не хочется вспоминать об этом. Не просто не хочется — стыдно вспоминать. Как я мог!..
Память ведет меня сейчас в другое, когда я держу в руках пачку этих старых писем, в которых как бы сконцентрирована, сжата до предела вся острота, вся боль нашей долгой разлуки.
…Я гляжу на эти письма и вижу землю, усыпанную облетевшей листвой, и на мертвых листьях патронные гильзы — только что выстреленные, золотистые, еще не успевшие потускнеть. Вижу ствол сосны, кора потемнела от осенней сырости, на коре белеет большая поперечная царапина, словно сильный коготь продрал ее до древесины. Это не след когтя — след пули.
Я сижу на старом замшелом пне, откинув полы задубевшей, не просыхающей уже несколько дней плащ-палатки, на моих коленях — раскрытая планшетка. В лесу тихо. Так тихо, как всегда поздней осенью, когда не слышно птичьих голосов. А еще полчаса назад по лесу раскатисто гремели очереди пулеметов и автоматов, шел бой. Вот здесь, у пенька, на котором я сижу, лежали два наших солдата с «Дегтяревым» — это от него остались стреляные гильзы на палой листве. Сейчас пулеметчики заняли новую позицию, ближе к опушке: мы отбросили немцев, наверное, на целый километр, и они попритихли. Они где-то там, за стеной сосен…
Мы отбросили немцев, но в любой момент они могут начать новую атаку. Уже третий день мы в кольце. Третий день стоим в обороне. Но все время приходится менять позиции — нет хуже боя, чем бой в лесу, где в любой момент враг может показаться из-за каждого дерева, где каждый шаг — это шаг в неизвестность.
Третий день мы в окружении, в этих лесах западнее Киева. В тех самых лесах, где в сорок первом наши войска отбивались от наступавших немцев и, обойденные ими, оказывались в кольце. Может быть, в этом самом месте, где сейчас мы, в сорок первом тоже гремел бой…
Но окружение окружению рознь. Теперь, в ноябре сорок третьего, мы попали в окружение наступая — бывает и так. Попали потому, что, продвигаясь стремительно, вырвались вперед, а противник сумел ударить с флангов. Но мы знали, что на фронте инициатива в наших руках, знали, что в конце концов мы освободимся из кольца — так или иначе. Или выйдем сами, или выручат нас отставшие в наступлении соседи. Однако может случиться всякое. Окружение есть окружение. Противник, очевидно, подтягивает силы. И война есть война, надо всегда быть готовым к самому худшему. А сейчас, хотя и наступило затишье и вражеская атака отбита, наше положение, видимо, не улучшилось ничуть. Может быть, командование готовится к прорыву. Может быть, к тому, что немцы с новыми силами навалятся на нас. Все может статься. Приказано уничтожить все служебные документы, карты, списки, оставить только личные документы. В нескольких шагах от меня штабные в маленьком окопчике, вырытом кем-то из солдат во время недавнего боя, жгут все свое делопроизводство. Легкий запах дыма доходит до меня. Каждому из нас понятно, что означает приказ сжечь карты и документацию. Такие приказы даются только в самом крайнем случае.
Может быть, позже, когда стемнеет, мы пойдем на прорыв. У меня не осталось служебных бумаг, и моя совесть чиста. Если меня убьют, немцы не найдут в моей сумке ничего полезного для себя. А как быть с письмами Рины? Я не хочу, чтобы их касались чужие, вражеские руки. Не хочу, чтобы их, небрежно посмотрев, какой-нибудь фашист бросил наземь и ступал бы своими подкованными сапожищами по ним, по словам любви, тоски, ожидания. Не хочу, чтобы где-то в немецком штабе в минуту досуга переводчик читал вслух приятелям найденные в сумке убитого русского офицера письма его жены. Не хочу! Сжечь?
…Я не сжег писем Рины. Ночью мы вышли из окружения.
Мне кажется, что эти письма и сейчас хранят в себе запах дыма сожженных тогда штабных бумаг, запахи походных солдатских костров, облетевшей листвы, сырой окопной земли и пороховой гари.
Бережно, чтобы не порвать ветхой, слежавшейся бумаги, разворачиваю одно из писем:
«Обо мне не беспокойся, я всем обеспечена хорошо. Здесь все дешево, так что вполне сыта. Кругом тайга, можно набрать сколько угодно грибов и ягод, в колхозе и у колхозников много ульев, так что случается и медком побаловаться. Люди здесь приветливые, относятся ко мне заботливо…»
Рина писала мне это поздней осенью сорок третьего года, из эвакуации — к тому времени она жила на Алтае, за сто двадцать километров от железной дороги, в селе за Бийском. Читая эти строки, я сразу же понял, что, желая меня успокоить, она пишет неправду. По рассказам солдат, получавших письма из родных мест, в том числе и с Алтая, я знал, каково живется в деревне: хлеб почти весь уходит на сдачу, люди не едят досыта, цены на продукты самые невероятные: стакан простокваши на базаре хозяйки вынуждены продавать по десять рублей, потому что даже за старые ботинки там же надо заплатить пятьсот, а это немногим меньше того, сколько получает Рина за месяц своей работы в деревенской школе. Мне не верилось, что село, в котором приютилась Рина, отличается каким-то исключительным благополучием — закон войны был одинаков для всех краев нашей земли. Но я прекрасно понимал, почему Рина пишет так: ведь и я своими письмами старался успокоить ее, писал, что от передовой я далеко и беспокоиться за меня совершенно не следует.