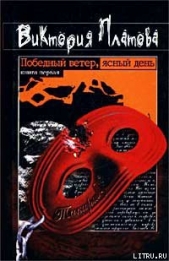Рассказы
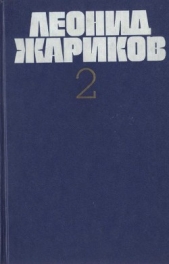
Рассказы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Какова цель вашего визита? — спросил Папазьян.
— Фрин гевольт ист гальб гевонен, — ответил Танцюра, устраиваясь поудобнее на диване. Папазьян тотчас сообразил, что немецкая поговорка приведена ни к селу ни к городу и говорит лишь о том, что полицай решил щегольнуть знанием немецкого языка. Смысл поговорки Папазьян перевел для себя примерно так: «Смело начать — наполовину сделать». Если полицай такой «знаток» языка, как и он сам, то стесняться нечего. Папазьян ответил бессвязными немецкими словами, которые помнил еще со школьной скамьи. Зато произнес их самоуверенно и щелкнул зажигалкой, прикуривая.
Чтобы окончательно усыпить бдительность полицая, Папазьян как бы между прочим, небрежно двумя пальцами достал из кармана документ и показал его Танцюре. Небрежностью и непринужденностью он хотел подчеркнуть, что показывает инспектору документ не по долгу службы, а доверительно. Танцюра увидел знакомую, похожую на страшного паука подпись начальника окружного гестапо оберштурмфюрера полковника Моора, придвинулся к Папазьяну и прошептал:
— Должен извиниться… я сказал не совсем правильно. Я не Кучеренко, а инспектор окружной полиции Ефрем Танцюра. Здесь нахожусь инкогнито. Есть задание навести справки о партизанах шахтерского отряда. Они где-то притаились, надо их… — Танцюра напряг руки с растопыренными пальцами и вдруг быстрым движением сцепил их, точно поймал кого-то.
— Их ферштее, — сказал Папазьян, поднимаясь и давая понять, что больше не может продолжать разговор. Будто бы ради любопытства, он спросил: — А вы куда сейчас направляетесь, господин Танцюра?
— Возьму у старосты лошадей и поеду в село Гали-чаны.
— Вам везет, — сказал Папазьян. — Мы как раз едем туда, можем подвезти.
Чтобы не дать инспектору времени отказаться, Папазьян юркнул в комнату майора, бросив на ходу полицаю:
— Я спрошу разрешения у господина майора, и мы поедем.
Вернувшись, он с улыбкой сказал:
— Господин майор просит не стесняться и занять место в машине.
— Благодарствую…
Из комнаты вышел неприступный майор Фридрих фон Ленц, взглянул на часы и рявкнул:
— Нах форн! [20]
Танцюра вскочил с дивана и выпрямился в струнку. Папазьян накинул на плечи майора шинель с меховым воротником, и тот зашагал к двери.
Когда машина выезжала со двора, староста Талалай и его жена низко кланялись и желали дорогим гостям доброго пути.
— Поехали! — весело крикнул Танцюра и помахал рукой старосте: — Ауфвидерзеен!
Машина мчалась с бешеной скоростью. Танцюра крепко ухватился рукой за борт, зажав под мышкой черный кожаный портфель. Инспектор полиции был хорошо настроен и даже не придал значения тому, что машина почему-то остановилась на окраине села и в кузов вскарабкался и уселся на мешках часовой с винтовкой. Танцюра оглядывал лица солдат в кузове и улыбался. Потом открыл портфель и достал оттуда антоновское яблоко. Секунду подумав, кому его подарить, протянул сидящему рядом и сказал:
— Дер яблук.
Но солдат отвернулся. Танцюра слегка толкнул его локтем и добавил:
— Есмен, кушай.
Партизан не оглянулся. Ничего не подозревая, Танцюра стал с хрустом есть яблоко.
Село было уже далеко позади, и вокруг простиралась пустынная белая степь.
Неожиданно машина затормозила. Из кабины вышел офицер-переводчик, за ним майор. Танцюра протянул было руку майору, чтобы помочь ему взобраться в кузов, но солдаты опередили Танцюру и дружно втащили к себе офицера. Инспектор полиции торопливо пошарил рукой в портфеле и достал второе яблоко, собираясь угостить майора, но замешкался. Солдаты почему-то встали и взяли автоматы на изготовку. Майор пробирался по мешкам к Танцюре. Подойдя к предателю, он сел напротив и глянул прямо в лицо. Танцюра перестал жевать, приоткрыв рот.
— Ну, здорово, Танцюра!
Яблоко застряло в горле полицая. Он смотрел на Задорожного и молчал. Лицо его сделалось белым, как зимняя степь.
— Как себя чувствуешь? Неважно?
Инспектор выронил яблоко, и оно покатилось за мешки.
— Расскажи, как идет холуйская служба, как наших людей вешаешь?
У Танцюры точно отнялся язык.
Папазьян вытащил из кобуры полицая пистолет, из бокового кармана кителя — второй, поменьше, отобрал портфель, заглянул в него, бегло перелистав бумаги, и передал Задорожному.
Танцюра поднялся, стянул с головы офицерскую фуражку.
— Сознаю, — выговорил он тихим голосом, так, что стоявшие чуть подальше не расслышали, а лишь видели, как шевелились его белые губы. — Сознаю и проклинаю себя. Служил немцам, это верно. Если можете, простите…
— Артист! — сказал кто-то в тишине.
— Заставили служить, — продолжал Танцюра, стараясь придать голосу как можно больше жалости и скорби. Но, чувствуя фальшь, терялся от этого еще больше и, холодея, понимал — никакими словами не отговориться, никакими мольбами не искупить предательства.
— Кто же тебя заставлял?
— Нужда. Нечего было есть.
— Хватит комедию ломать, — сурово проговорил Задорожный и спрыгнул с машины. Марат Папазьян поднял пистолет. Полицай упал на колени.
— Господа! Братцы! Не убивайте меня. Ось там, в портфеле, все планы про партизан и про немецкий карательный отряд. Я искуплю вину, кровью смою!..
— Вот именно… — Папазьян взял Танцюру за воротник и столкнул за борт машины. Тот опрокинулся навзничь и завыл, выставив вперед ладони, точно защищаясь ими.
— Не скули по-собачьи, — сказал шофер Митя Царь, — умел убивать, умей и сам принять смерть…
Глухо щелкнул выстрел. Танцюра лежал, откинув руку под колесо машины.
Митя Царь плюнул с досады:
— Измену никакой кровью не смоешь. И там, за гробом, на веки вечные предателем останешься!..
— Поехали! — сказал Алексей Задорожный. Партизаны расселись по местам, и машина тронулась.
Заднее колесо проехало по руке Танцюры.
Через несколько минут неуклюжая итальянская грузовая машина скрылась в степной дали.
1942
КУЗЯ
Сквозь зимний лес пробирался человек. Истрепанная шинель, натянутая поверх рваного овчинного полушубка, солдатская пилотка, обмотанная шарфом, были запорошены снегом. За плечами в тощем вещевом мешке лежал кусок хлеба и постукивали сырые картошки, окаменевшие от мороза.
Дремучие сосны и ели стояли по пояс в сугробах. Зеленые лапы ветвей, отягощенные пышными белыми шапками, нависли над снежной целиной.
Человек изредка останавливался и отдыхал, обняв рукой ствол дерева, потом снова трогался в путь.
Родная мать не узнала бы Илью Шевчука, своего сына, бывшего офицера Красной Армии, — так он зарос, был измучен и даже поседел в свои двадцать три года.
В бою под Смоленском Шевчук был контужен взрывом бомбы, потерял сознание и очнулся уже за колючей проволокой под охраной сторожевых собак и молчаливых немцев-автоматчиков.
Слезы сдавили горло комсомольцу. Ко всему готовился он, отправляясь на фронт, — к смерти, к любым мукам, только не допускал, не мог и не хотел допускать одного — плена. Еще дома отец сказал ему: помни, сынок, у нас в роду было много солдат, но ни один не сдался в плен. Пусть лучше придет похоронная, буду знать, что сын погиб как герой.
И вдруг — неволя, тоска в глазах товарищей, позорная участь раба.
Лагерь находился в небольшом городке. Каждый день немцы гнали по улицам пленных красноармейцев, таких же, как Шевчук, голодных, оборванных. Многие жалобно просили у жителей «хлебца», выкрикивали свои адреса, чтобы известили родных.
Шевчук не испытывал к ним ни жалости, ни сострадания, а лишь чувство горечи и стыда. Презирал он и самого себя.
Однажды провели под усиленным конвоем небольшую группу матросов. Все они были окровавлены, избиты, со связанными назад руками. На каждого — чуть ли не по два автоматчика, да еще собаки-волкодавы, а впереди мотоциклист с пулеметом. Сразу было видно, как немцы боятся советских матросов, даже связанных проволокой. Жители города бежали толпами, старались хоть взглядом выразить сочувствие или чем-нибудь помочь, но герои шли гордо, ни на кого не глядя. Их провели мимо лагеря, за окраину города на расстрел.