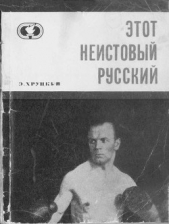Русский лес (др. изд.)
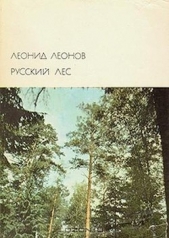
Русский лес (др. изд.) читать книгу онлайн
Леонид Максимович Леонов за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и создание художественных произведений социалистического реализма, получивших общенародное признание, удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.
Роман Леонида Леонова “Русский лес” — итог многолетних творческих исканий писателя, наиболее полное выражение его нравственных и эстетических идеалов.
Сложная научно-хозяйственная проблема лесопользования — основа сюжета романа, а лес — его всеобъемлющий герой. Большой интерес к роману ученых и практиков-лесоводов показал, насколько жизненно важным был поставленный писателем вопрос, как вовремя он прозвучал и сколь многих задел за живое.
Деятельность основного героя романа, ученого-лесовода Ивана Вихрова, выращивающего деревья, позволяет писателю раскрыть полноту жизни человека социалистического общества, жизни, насыщенной трудом и большими идеалами.
Образ Грацианского, человека с темным прошлым, карьериста, прямого антагониста нравственных идеалов, декларированных в романе и воплотившихся в семье Вихровых, — большая творческая удача талантливого мастера слова.
Вступительная статья Е. Стариковой.
Примечания Л. Полосиной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— На чаю не скопишь... — тоном знатока возразил солдат, и до Ивана Матвеича докатился залп махорочного дымка. — Эй, хозяйка, как младенчика-то кличут? Чего он больно надрывается у тебя...
— Митрюнькой, — сквозь баюканье отозвался женский голос из темноты. — Сладу с ним нету.
— Не трожь, ему тоже домой не терпится. Поддержись, брат Митрюнька: пущай война пройдет! Глянь, в аккурат к самой свадьбе и поспеешь.
Спокойной, безунывной силой человека, владеющего бессчетным количеством времени, повеяло от его шутки, и соседи пристально следили за угольком его цигарки в ожиданье очередного балагурства, лучшего лекарства от дорожных невзгод. Но тут началась проверка документов, а вскоре за тем поезд тронулся и надолго все потонуло в перестуке колес... Ночь выдалась ясная, и никто не спал, не столько от предчувствия налета, скорее от трепетного и радостного беспокойства, естественного при возвращении на родину после разлуки. Иван Матвеич становился теперь частью великой и бессмертной реки; не было надежней защиты от возможных бед, кроме как до последней мысли раствориться в ней без остатка... Когда же уши попривыкли к гулу движенья, он стал различать обрывки разговоров в разных концах вагона на извечные народные темы: о богатстве и нищете, чести и бесчестии, славе и ничтожестве. Оттого ли, что человеческие души легче сплавляются в потемках, или же теснота и дальняя дорога располагали ко взаимному доверию, но только то были наиболее сокровенные народные думы вслух, какие вряд ли подслушаешь при дневном свете. Так, совсем рядом, за спиной, обсуждалось грядущее за победой житье, останутся ли там глупцы да бюрократы — казенные сердца! — и прежде всего как обезопаситься при коммунизме от природной жадности людской, чтобы каждый ложку свою в общий котел запускал в очередь, по совести, а не загребал бы вчетверо да про запас. «Эва, я считал, двадцати верст не проехали, а ты, гражданин, восьмую спичку жжешь, а мне коробки на неделю хватает. Вот и уравняй нас!» На все недоумения отвечал немедля молодой смышленый голос, такой снежно чистый, похожий на ручеек из предгорий коммунизма.
В соседнем же купе, видно как отголосок на упоминанье о неправедных богатствах, передавалась история одного якобы орловского купчины. То был длинный, невольно усыпляющий сказ, как в японскую еще кампанию разжился злодей через подмешивание обыкновенного белгородского мела в солдатский хлеб, так что все кассы и банки в России своими деньжищами заполонил.
— Это действительно случалось на Руси, — подтвердил в темноте неунывающий насмешник. — Дядя мой хлюста одного знавал: сушеный снег в соль подмешивал, такая хитрость! Так, верите ли, о пяти этажах домину сколотил.
— Заткнися ты, глупая голова, — без обиды оборвали его со стороны.
Протекло не больше минуты, и опять рассказчица невозмутимо продолжила свою повесть про то, как обогатился злодей значительным капиталом и как, промежду прочим, зачала его за это в клочья рвать судьба: сынка пьяный казак с ходу шашкой надвое расхлестнул, а дочка родная, на что уж в холе жила, под встречный транспорт кинулась от обманутой любви, отчего вся купецкая домашность в полный разор пришла... и как, ища замиренья с богом да народом, ставил злодей у себя во дворе щедрые странноприимные столы, с непокрытой головой, да все в пояс кланяясь и зазывая к себе мимохожую голь... но будто не приняла земля его покаянья, а как помер от червивой долговременной болезни, то и зачал он гудеть, скажи, ровно поддувало адское открыли, слушать силы нет; а в последнюю ночь внезапно расселась его могила, никакими канатами дна не достать... так и скинули, причем еле хватило оставшегося богатства скверную его ямину засыпать.
— Так-то, милые, зреет яблочко, наливается румянчиком, потом само с ветки долой просится. Я в ту пору совсем алым цветочком была, а вот запомнила... — И хотя все понимали несообразность расписанных старухой подробностей, никто не посмел осмеять ее сказки за крохотную долю заключенной там народной правды.
... Поезд шел с частыми и долгими остановками в пути. В обгон всего на свете военная сталь катилась на запад, оставляя глухоту в ушах и щемящую надежду в сердце; встречных почти и не было. И еще, пока пропускали очередной эшелон, вражеский летчик заскочил на полустанок; в течение не меньше как трех четвертей часа, показалось всем, пытался он всадить заряд похлестче в вагон, где вновь захныкал проснувшийся Митрюнька и засветилась солдатова цигарка. Делал это летчик неумело, возможно — всего лишь ученик, и, судя по реву мотора над кровлей, очень сердился на свои промахи, но никто не бежал наружу из боязни утратить место, а каждый терпеливо молчал в ожиданье, когда обучится наконец либо израсходует боеприпасы и усердие.
Одно время, когда разрывы приблизились и стали царапать осколками по обшивке, пассажиры, затаив дыханье, глядели во мрак над собой, словно могли видеть незадачливого аса, который ложился на крыло, пускался на развороты, как бы потягиваясь перед прыжком на добычу, или же забирался в высоту и падал оттуда с наклеву, желая по крайности если не убить, то хоть попугать младенчика свистом новейшей военной техники; вдруг он затих.
— Улетел... — сказал в тишине молодой голос.
— А может, в моторе заело что али горючее кончилось, — хрустко, словно по снежку промороженному шел, заговорил солдат. — Оно и в работе случается: не заладится, так и гвоздя не вобьешь! А может, и молодой, навыку нет, боевое ученье на нас проходит!
— Вы потише, герои, еще приманите, — сторожко сказал стариковский голос сверху.
— Ничего не страшись, папаша, ничего с тобой не случится, раз я тут. Чего было суждено, то по мне отстреляно; теперь мой черед. Вот, сам пужать их еду!
— А не загадывай, не заговоренный. В видении, что ль, тебе открыто было? — послышалось сразу с двух концов.
— Нет, видения мне не было, обошлося, а так обернулось дело... — Больше никто в вагоне не слышал эволюции ночного летчика над головой; кстати, поезд стал крадучись отходить с полустанка. — Летом дело случилось: с Вязьмы нас уже согнали, а до Медыни еще не дошли. Все тогда на свете перепуталось, невесть где свои, где наши. Небеса без облачинки были... и туда всё эшелоны шли да всё птицы черные во множестве на поживу летели, а оттуда, глядеть жутко, старушки брели с детками в горьком лесном дыму. Мы как раз из окруженья вышли, семеро, при оружии. Дело прошлое, чего греха таить: где и ползком приходилось для сохранения жизни, не без того.
— А чего ж, под силою страха-то и на брюхе поползешь. Ведь они жуткие паразиты, ничего по человечеству не разумеют, — поддержал незнакомый Ивану Матвеичу женский голос, но потому лишь поддержал, что провидел благоприятную концовку в беспощадной к себе солдатской исповеди.
— А еще по гроб жизни запало мне в душу, как один приезжий, очень такой грамотный товарищ, нас увещевал, — в раздумье продолжал солдат. — «Вы молодцы, говорит, сыночки, очень удачно отступали нонче. Заманивай, мать их так, пускай располагают, будто и нет вас вовсе. Одначе теперь бы вам денечек-другой в обороне постоять, огрызнуться, а там и шарахнуть по силе возможности». — «Семеро нас, отвечаем, из окруженья идем, а в семерых какая сила!» Озлился он тогда: «Эх, видно, невест у вас, говорит, всех надо пострелять, раз слезы материнские не действуют». А того не может понять, что мы еще не раскачалися... Ну, обошли мы его сторонкой от греха и опять в путь-дорогу: ведь оно легко идется под горку-то! И, главное, не скажу, чтобы смерти там боязно было или другое что, а просто с жизнью расставаться не тянуло: уж больно охота на коммунизм-то хоть глазком посмотреть... что это за коммунизм такой? Ведь сила-то какая в землю вбита! Да вроде и неохота из-за богатого стола не отобедамши-то вылезать.
— Вот-вот, разбаловались, доверились, подзабыли, в каком окруженье находимся. Рано пока без запоров-то жить, — вставил для ясности тот, молчавший дотоле, молодой голос. — Вот у Маркса-то и сказано...