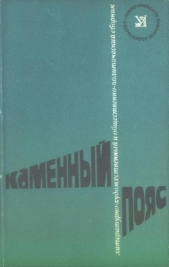Каменный пояс, 1987
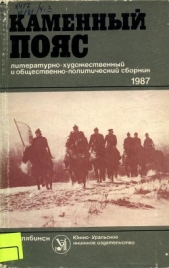
Каменный пояс, 1987 читать книгу онлайн
Литературно-художественный и общественно-политический сборник, подготовленный Курганской, Оренбургской и Челябинской писательскими организациями. Включает повести, рассказы, очерки, статьи о современности и героических страницах истории нашего государства. Большую часть сборника составляют произведения молодых авторов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ножовка у меня сталистая, надо разводку ей делать, — тянет Толик.
— После поспеешь, — беспечно машет рукой Евтифеев. — Айда ко мне: у меня баба картошки отварной обещала сёдни…
Чем-то они похожи — два таких разных, на первый взгляд, человека. Беспечностью своей? Тем, что на все рукой махнули?
Кровать под Толиком заинтересованно скрипит.
— Эх, по картошке-то я соскучился, — вспоминает он. — Я больше рассыпчатую люблю…
— Давно бы пришел, — говорит Евтифеев. — У меня в сарае и селедка беломорская есть.
— Ну, все! — Толик дергает себя за волосы, точно он теперь-то уж побежден. — Ну и отведу же я душу-подлючку!
— Во-во, мы ее, богову, ублажим. Давай-ка, брат, собирайся, ты должен крутиться, как вор на ярмонке…
Мы знаем, что у Толика с братом нынче общий день рождения, и брат прислал ему письмо. Откуда оно? Неведомо. Толик по виду весел, хотя ему, как я понимаю, не до веселья. Черная шапка-боярка вынимается из рукава пальто… «Из-за нее братуха сидит… — показывает он. — Дорогая…» И я у него брал, не зная, поносить! Менялись.
…Когда Толик хотел есть, а есть было нечего, он, придя из школы, пил подсоленную воду.
Отец, ослепший и парализованный после фронта, сколько мог, сопротивлялся смерти. Он лежал под простыней, смотрел открытыми безжизненными глазами перед собой, он уже не мог говорить, его лицо было немым и спокойным; но Толик боялся его спокойствия и немоты.
Он помнил постоянную виноватую улыбку отца, когда тот еще был на ногах, помнил его с палкой, обратившего лицо к солнцу. Отец обходил всех довоенных друзей, кто жив остался, заходил в семьи погибших, п о м и н а л и уходил потом, трогая палкой дорогу, подпираемый двойняшками.
«Отчего у него такая улыбка? — думал тогда Толик. — Оттого, должно быть, что он слепой…»
Потом для отца все кончилось, он умолк; но товарищи его не забыли: выхлопотали ему квартиру в новом доме на Шоссе Энтузиастов. Двухкомнатная эта квартира на пятом этаже так не похожа была на прежнюю, полуподвальную, что мать охнула и расплакалась от радости, когда вошла в нее.
Смерть отца все изменила.
Прежде первой заботой для них было обиходить его, украсить его жизнь своей любовью и терпением. Со смертью отца мать торопила каждый день…
У Толика с братом не в чем стало ходить в школу — старое все сносили. Пенсии, которую они получали за отца, не хватало; мать пошла разнорабочей на завод, не имея квалификации, и приносила совсем небольшой заработок.
Тогда-то школа из своих средств и купила близнецам по костюмчику и паре ботинок.
Стыдился Толик бедности и, не умея скрыть стыда, был дерзок до безрассудства. Костюмчик его был в вызывающем небрежении; он точно заявлял, костюмчик: «Купили меня, купили? Так вот же вам, вот!» Но ботинки Толик берег и даже перестал гонять во дворе тряпичный мяч. Потому что — куда ж без ботинок?
Однажды братьев вызвали к завучу.
— Что же вы, Щербаковы… — сказала завуч, неодобрительно и даже брезгливо глядя на них и покачивая своей темноволосой и как будто змеиной головкой. — Мне не хочется огорчать вашу мать… Но я буду вынуждена это сделать! Вы не хотите учиться, вы хотите драться и грубить старшим, — может быть, вам наша школа не нужна?
Она была почти великаншей, у нее были громадные руки и ноги и на удивление крохотная головка.
— Что же вы молчите? — спросила она. — Вы еще, оказывается, и трусы… Вам не место среди хороших ребят!
«Это Сопелкин, по-ихнему, хороший, — затаенно думал Толик. — Он булочки через силу жрет, никогда не обломит…»
В коридоре шумела большая перемена и, точно подслушав его мысли, чей-то голос выкрикивал: «Облом! Облом!»
— …А ведь мы вам помогли: купили одежду и ботинки, — вы не должны этого забывать, — продолжала завуч.
Головка ее важно раскачивалась, глаза сузились и стали злыми.
— Вы должны благодарить школу и слушаться, мы не можем вас вечно прощать, — не одни вы сироты…
Когда Толик, наклонясь и покраснев до слез, стал расшнуровывать ботинки и поспешно рвать их с ног, она завороженно опрокинулась на спинку стула.
— Нате ваши ботинки, не надо мне их, ничего мне не надо вашего! — в каком-то ослеплении стыда сказал Толик и поставил их ей на стол. — Я лучше босым пойду… Пользуйтесь! И костюмчик ваш… мать принесет.
Брат, торопясь и опаздывая, тоже сдирал ботинок.
Пятнадцати лет Толик с братом, несмотря на растерянные уговоры матери, пошли работать.
Общежитские вечера незабываемы.
По соседству, у Петровича, допоздна раздается бой шаров, спорящие голоса поднимаются и падают, — там играют в бильярд. Сам Петрович запаленно мечется в коридоре в длиннополом пальто, с опухшими глазами, без шапки.
— Что ты? — спрашиваю его, сбрасывая свою куртку-меховушку.
— Не люблю, когда пьянка! — отвечает он, сутулясь, обиженно вытягивая губы.
Из дверей в двери в великом оживлении пробегает Роман — в белых валенках с подшитыми задниками, бритый, шароголовый, с татарскими медными скулами. Высоким голосом, захлебываясь, декламирует у себя Вадим, — стены общежития пропускают все звуки…
Уже засыпая, слышу где-то внизу грудной, короткий, быстрый женский смех — этакий покати-горошек. Смех повторился еще и еще, так и уснул под этот смех; а проснулся перед утром оттого, что по-детски, взахлеб, счастливо смеялся во сне.
…В соседней комнате целуются звучно, поют протяжно, — там постоянно рассыпается мелким хохоточком женщина, гуляющая с Петровичем, прибегающая к нему ежедневно.
Стоит приехать со стройки, раздеться, развесить в углу на гвоздях телогрейку, ватные, с напяленными поверх них брезентовыми, брюки, умостить валенки с портянками на батарее и в трусах, содрогаясь от коридорной стыни, замаршировать на кухню и далее в ледяную ванную, как без стука распахивается входная дверь и на тебя обрушиваются хохоток, вскрики, бесстыдство черно-смородинных глаз на смуглом, с мелкими чертами, лице.
Злоказова — так ее фамилия — пошарит за плинтусом, найдет ключ, отопрет Петровичеву комнату, — сам он еще не возвращался с монтажного участка.
В огромной его комнате для командированных — единственная застланная кровать, две другие пустуют, показывая голые сетки. Посередине же у него необъятный бильярд, на котором, бывает, кто-нибудь и ночует…
Вот щелкнули шары: Злоказовой скучно. Еще щелчок — шар с громом летит на пол. Битва осатаневших шаров означает, что гостье надоело ждать. Петрович явится, скрежеща мерзлым брезентом робы; она кинется к нему и уже не отстанет, вечер пойдет, как прежние вечера…
Но иногда за ней приходят ее две девчонки, лет девяти и десяти, — она выпроваживает их, покрикивая тонко, словно извиняясь:
— Сейчас приду, приду, идите пока с Танькой играйте, отвяжитесь от меня!
И хохочет, показывая коронки на мелких клычках, по-цыгански поглядывая на Петровича.
— Вот вам папка скоро будет, хорош ли, нет — смотрите сразу. Скоро дождетесь себе папку…
Потом он играет на бильярде с приятелем, не обращая на нее внимания, а она поет тоскливо, на вред ему, или стучит ногой в пол:
— Чокнутый, ох и чокнутый ты! Ведь я же посмеялась, дуралей, не злись!..
У Романа раскрыта дверь и слышно, как кто-то дрожащим от смеха голосом зачинает сказку:
— Жили-были муж с женой, и гуляли они так, что всем чертям тошно. А было у них три сына…
Должно быть, это куролесит Вадим. Отменно красив он, и не устает хвастать братом, капитаном дальнего плавания; здесь, на стройке, сошелся он с женщиной, которую заглазно, нехорошо усмехаясь, зовет Крокодилом; на лице у него, как и у Костина, шрам.
Совсем недавно вернулся он из армии с трехмесячной переподготовки и брал у меня галстук — сфотографироваться на новый военный билет: ему дали офицерское звание.
— Микро-лейтенант! — кричал он, сияя глазами, и отмерял двумя пальцами: — Микро…
На воображаемом погоне у него высвечивала одна звездочка.