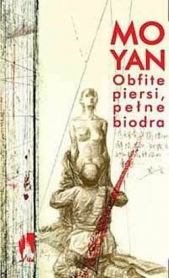Ожерелье для моей Серминаз

Ожерелье для моей Серминаз читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ну, если ты мужчина и носишь папаху, выходи, будем бороться! — сказала та, что до сих пор сидела в сторонке.
А я-то в душе почему-то надеялся, что именно она за меня заступится.
— Да он и не носит папахи! — сказала третья, маленькая, полненькая. Она подскочила ко мне и, ловко схватив мою кепку за козырек, надвинула ее мне на глаза. — Разве это головной убор? Это же войлочный плуг.
Тут они с хохотом набросились на меня и повалили наземь.
Я пытался образумить их:
— Ну что вы делаете? Вы ведь девушки! Прекратите сейчас же!
— А как ты посмел без невесты останавливаться в Долине женихов? Может, меня изберешь? — закричала одна.
— Нет! — твердо ответил я.
— Ах, нет?
Они повалили меня ничком, стащили с меня брюки польского происхождения и принялись хлестать заранее приготовленными пучками крапивы.
— Может, меня?
— Нет!
— А может, меня?
— Нет! Нет! Никого из вас! У меня в ауле есть невеста. Она меня ждет.
— А я что, хуже твоей невесты? Говоря сейчас же!
— Смилуйтесь надо мной, девушки! — взмолился я. — Мне еще далеко идти! Вы хорошие, красивые, и, клянусь, я не прочь бы жениться на любой из вас, не будь у меня невесты!
Так говорил я со слезами на глазах, и уж не знаю, что бы они еще натворили, если бы на склоне горы не появилась грозная женщина, наверное, бригадир их дьявольского звена, и не позвала их на работу, пригрозив пальцем: «Хватит, проказницы!»
Да, хороши проказницы!
Девушки убежали, похватав свои узелки, и бросили меня как растерзанную орлами куропатку. Я клял себя как мог: ведь мой дядя Даян-Дулдурум частенько мне рассказывал об ицаринках. Просто я не верил, что гостю из другого аула так и не удастся пройти Ицари, не испытав когтей этих «проказниц». Пожалуй, один лишь Даян-Дулдурум ухитрился как-то благополучно миновать этот аул, но для этого он попросил у пастуха его костюм и прошествовал вместе со стадом.
Нетрудно понять, как я торопился уйти отсюда, тем более что и ожоги от крапивы подгоняли меня. Отыскав хурджины, спрятанные девушками в кустах, я кинулся вперед и больше уже нигде не останавливался, если не считать встречи с горцем Магомедом, сыном нашего кунака из Хунзаха, который шел от аула к аулу, чтобы ко дню своего сорокалетия пригласить в гости сорок сорокалетних Магомедов. И очень сожалел Магомед, что меня зовут Бахадуром и что мне не сорок, а двадцать. Он уже давно скитался, и теперь ему не хватало всего лишь одного сорокалетнего Магомеда: тридцать девять уже было. Я посоветовал ему к этим тридцати девяти прибавить самого себя. К великому его удивлению, это не приходило ему в голову. И Магомед обрадовался не меньше, чем обрадовался Ходжа, когда в базарный день нашел самого себя в толпе по грому своей тыквы, наполненной сухим горохом.
К вечеру я все-таки добрался до долины реки Рубас, где на склоне горы утопает в зелени аул Чарах, прославленный изделиями своих ковровщиц. Природа здесь щедрая и мягкая, склоны гор в синеве лесов, долина цветет садами, и кажется, что даже сакли расположены так, чтобы обогатить пейзаж. Река Рубас, протекающая у самого аула, небольшая, но чистая и резвая, как жеребенок весной. Из труб над саклями поднимались дымки, и мой искушенный нос улавливал все запахи вечерней трапезы чарахцев: хозяйки готовили и острый хинкал, и пельмени-курзе, а самые расторопные стряпухи уже пользовались дарами весны: и мятой, и горным луком, и крапивой — как она злобна в руках ицаринок и как приятна в хорошем пироге! Да, кто-кто, а уж чарахцы понимают толк в каждой травке, в каждом цветке. Цветов на здешних лугах видимо-невидимо, они по пояс скрывают идущего. Чарахские женщины, когда ткут свои знаменитые ковры, не только копируют рисунок цветов на лугу, но и добывают из трав, корневищ и коры деревьев краски для пряжи, более нежные и стойкие, чем всякая химия. Из клевера вываривается желтая краска, из корней марены — розовая, из травы кара-чуп — черная, да всех и не перечтешь, А тому дагестанцу, который взрастил семена дикой марены, Келбалаю Гусейну, стоит и по сей день памятник на одной из площадей французского города Авиньона. Слава о чарахских красках еще сто с лишним лет тому назад пронеслась по Европе.
В ауле Чарах у меня не было кунака, и я, как всякий случайный гость, отправился прямо на гудекан, что разместился рядом с ковровой мастерской. Огни в ее больших окнах были уже погашены, светилось лишь одно окно, из-за которого доносился ритмичный перестук ткацкого станка. Наверное, какая-нибудь ковровщица так увлеклась, что хотела завершить узор, хотя рабочий день давно кончился. Такое настроение мне хорошо попятно, потому что и я частенько задерживался на работе, чтобы доделать какую-нибудь деталь и, конечно, чтобы, задержав приемщицу Серминаз, оказаться с нею наедине.
Гудекан разместился под навесом на каменных ступенях. При виде незнакомца все — и почтенные старики, и молодые — встали, и я первым поздоровался с ними, пожав каждому руку. Меня посадили на почетное место, рядом со стариком, перебиравшим древние четки. На нем был бешмет и черкеска с полным рядами газырей, но когда он закурил, я увидел, что в газырях хранился не порох, а табак. Так сказать, новое содержание в старой форме.
С другой стороны рядом со мной сидел старик с жирными усами, он все время разглаживал их и гулко рыгал — так горец обычно показывает, что сытно и вкусно поел. Я старался не смотреть на него, чтобы не томить свой голодный желудок.
Меня расспросили о житье-бытье, о здоровье моем и моих родных, о делах аульчан. Я тоже задал несколько вопросов вроде: «Ну, а у вас есть ли в делах удача? А комары еще не беспокоят? Нет ли опасности, что ударят заморозки и пропадет урожай?»
На последний мой вопрос в прежние времена горцы обязательно ответили бы так: «Как аллах рассудит, все в его руках!» Но мне сказали: «Нам бояться нечего, сады-то застрахованы!»
После обычных расспросов на гудекане наступила тишина. Очевидно, мой приход оборвал привычную беседу, и теперь чувствовалось, что каждый копается в памяти: не застряло ли там что-нибудь такое, за что можно уцепиться и снова начать разговор.
Мой сосед — почтенный старик в черкеске (звали его Шах-Алим, и он сказал, что является потомком легендарного Шарвели, всю жизнь помогавшего бедным и несчастным, а я подумал, что раз Шарвели легендарен, то непременно состоит в родстве с моим дядей и, следовательно, со мной) — задержал бусинку своих четок в пальцах и толкнул локтем своего соседа, простоватого на вид человека в папахе, похожей на маленький стог сена.
— Слушай, Кадар, когда отдашь долг?
— Какой долг? — встрепенулся Кадар.
— И он делает вид, будто не понимает! — обратился Шах-Алим к соседям, снова принимаясь за четки.
— Я и на самом деле не понимаю, о каком долге ты говоришь! — насупился сосед.
— Где ты сейчас находишься?
— На гудекане.
— А сюда что, молчать приходят?
— Ах да!.. — хлопнул себя по папахе Кадар, поняв наконец, о чем идет речь.
А речь шла о том, чтобы Кадар поведал людям что-нибудь интересное. Если человек не может этого сделать, то зачем и приходить на гудекан, — пусть сидит себе дома у очага и ссорится с женой из-за того, что она подала на ужин вместо хинкала чечевичную похлебку.
— Ну что же, мой род никогда не останется в долгу! — начал Кадар. — И раз уж заговорили о долге, так об этом я и скажу. Те, кто постарше, наверно, помнят: был в нашем ауле неудачник Исрапил. Однажды он задолжал соседу-чабану. Чабан стал посылать к нему детей, жену, а у Исрапила нечем было отдать долг и неоткуда было взять. Но навязчивые напоминания соседа надоели ему. Как-то, выйдя из сакли, Исрапил стал подгребать к своему забору терновник и всякие колючки. За этим занятием застал его сосед-чабан и, как обычно, спросил: «Эй, Исрапил, когда думаешь отдать долг?» Тот обернулся: «Ну и дотошный же ты человек! Неужели думаешь, что я умру, так и не вернув долга? Да я лучше повешусь! Не видишь — для тебя же работаю: собираю колючки вокруг забора. Скоро мимо моей сакли должны пройти отары овец, спускающиеся с летних пастбищ на зимовье. Овцы будут цепляться за колючки, на колючках останется шерсть, я соберу ее, а моя жена-мастерица из этой шерсти соткет добрый ковер. Продам я его на базаре и получу столько денег, что по сравнению с ними твоя без рубля полсотня — пшик. И все!» Выслушал, говорят, чабан эту речь и, закручивая ус, сказал: «Что же, учтем это, и отныне овец будут стричь еще на летних пастбищах». — «Ну вот! — воскликнул Исрапил. — Я же говорю: жизнь — хорошая штука, только портят ее такие, как ты, и все из-за какой-нибудь без рубля полсотни».