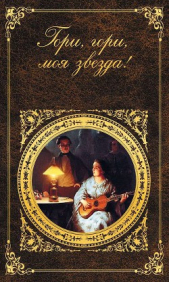А ты гори, звезда

А ты гори, звезда читать книгу онлайн
Читателю хорошо известны книги лауреата Государственной премии СССР Сергея Сартакова: «Барбинские повести», «Хребты Саянские», «Ледяной клад», «Философский камень». Его новый роман посвящен соратникам В. И. Ленина, которые вместе с ним боролись за создание большевистской партии, готовили победу Октября в России. Одним из них был Иосиф Федорович Дубровинский, профессиональный революционер, человек несгибаемой воли, беспредельно преданный делу революции. Роман широко и ярко воссоздает историческую обстановку в России на рубеже XIX–XX столетий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Понимаю, — сказал Дубровинский, — негоже, если я на этом возу окажусь бесполезной поклажей. Ну что же…
Он перегнул несколько раз газету, врученную Лениным, засунул в карман пиджака и попросил Надежду Константиновну налить ему чашку чая. Погорячее и покрепче.
10
Все выглядело здесь неправдоподобным, не таким, как в обыкновенном, шумном и бурлящем мире, к которому привык Дубровинский. До этого он больше чем полгода провел в Швейцарии, но, увлеченный работой, самой страны как-то и не замечал. Женева для него была не больше чем городом, где в безопасности от преследования царских властей нашла себе место редакция «Пролетария». Знаменитое Женевское озеро, как по первому впечатлению ему не понравилось, — сыро, дует промозглый, холодный ветер «биза», — так и потом, уже в летнюю жаркую пору, все равно не пришлось по душе. Много воды, горячего сияния солнца — и только. Даже горы из уличных тесных ущелий почти не были видны. Ленин и Крупская частенько приглашали его на загородные прогулки, он отказывался: «Некогда. И ходок я плохой».
Теперь он ежедневно тихим, «медицинским» шагом бродил по усыпанным песком дорожкам маленького санатория доктора Лаушера, доброго друга Дюбуше. Снег здесь сошел не очень давно, а выше, в перекрестном нагромождении горных хребтов, он оставался и вечно не тающим. И этот снег сверкал невиданной, необыкновенной белизной.
Дубровинскому хорошо помнились пушистые русские снега на открытых равнинах, возле родного Орла; помнились наплывы снеговых языков, свисающие с крыш Яранска после долгих метелей; помнились сыпучие сольвычегодские снега, в которые, чуть свернув с дороги, лошади проваливались по самое брюхо. В Финляндии снег был необыкновенно скользким. И всюду-всюду он имел какой-то цвет. От нежно-голубого до серо-стального. Здесь вместо цвета была абсолютная белизна.
И зелень швейцарских лесов, травы представлялась столь необыкновенно глубокой и яркой, что у Дубровинского порой шевелилось неосознанное сомнение: не зрение ли виновато, не оптический ли это обман? Такая густая, сочная зелень живому растению не может быть свойственна. И синь озер была такова, что, думалось, пополощи руки в этой воде, и они сделаются голубыми.
В одном из рекламных проспектов бюро путешествий Дубровинскому бросились в глаза строчки: «Швейцария пленительна своими пейзажами… Ее горы, долины, озера сказочно живописны…» Очень точно: не как в жизни, а сказочно. Не созданы природой, а нарисованы кистью смелого и щедрого живописца. Эти пейзажи не тянут к себе, они пленительней на расстоянии, издали. Спустись вниз, к озеру, войди в него — и сразу исчезнет очарование: вода окажется обыкновенной водой. И ветка сосны, когда она, сломанная, лежит на ладони, оказывается совсем такой же, как и в окрестных лесах Яранска.
Туберкулезные больные, словно в религиозном трансе, лежат по целым дням в удобных шезлонгах, укутанные теплыми пледами, в дымчатых очках, подставив лицо весеннему солнцу, жадно дышат воздухом необыкновенной прозрачности и чистоты, воздухом, убивающим микробы, а человека возрождающим к жизни. В уютной столовой за обедом или завтраком и на закрытых верандах, когда солнышко упадет в горы и оттуда пахнет слабым морозцем, а спать еще рано, только и разговоров, что о чудесных выздоровлениях. Весь персонал санатория одет в белое. Накрахмаленные пелеринки шелестят таинственно, словно в них скрыта волшебная сила — прикоснись, и ты исцелен. Женщины улыбаются ангельски, и это тоже обещание жизни. Весь мир здесь — это только ты сам, твои ощущения ослабленного биения сердца, вяло текущей по жилам крови, хрипловатого дыхания в легких. Что происходит там, в долинах, где как попало разбросаны совсем игрушечные домики под острыми черепичными крышами, или там, за высокими снежными перевалами в далеких и чужих странах, — все это никому не интересно.

Дубровинский невыносимо тяготился всем этим. Долгим, бездумным лежанием в шезлонге. Скучными, однообразными разговорами за столом. Посещениями кабинета врача, где делались уколы туберкулина и прочие манипуляции. Даже ангельские улыбки Кристины, ассистентки доктора Лаушера, не приносили ему радости, — они, эти улыбки, были похожи на белизну горных вершин, на глубокую синь озер, они были приятны, милы и как бы нарисованы.
Раны на ногах, несмотря на строгое соблюдение предписаний Дюбуше, затягивались медленно. И все же Дубровинский предпочитал ходить и ходить, а не валяться в постели.
Слова, вскользь брошенные Дюбуше, что лечиться надо длительно и серьезно, подтвердил и Лаушер. Он снисходительно пожал плечами, когда Дубровинский сказал ему, что таким временем для безделья не располагает и не располагает такой суммой денег, чтобы лечиться год или полгода, что просит применить к нему наиболее энергичный способ лечения, но дать возможность уехать из санатория уже через месяц.
— Вы можете это сделать и через неделю, — ответил Лаушер спокойно, — потому что работоспособность человека, больного туберкулезом, почти всецело находится в его собственной воле. Как это ни парадоксально, туберкулезный процесс, ускоренно сжигая человеческий организм, вместе с тем своеобразно усиливает его энергию. Но это, вы понимаете, не увеличивает продолжительности его жизни.
— Об этом я предпочитаю не думать, — проговорил Дубровинский. — Лучше месяц прожить в действии, в работе, чем год пролежать в шезлонге. К тому же мне давно обещали близкую смерть, а я живу. Правда, не так, как мне хотелось бы, но ведь есть же, очевидно, герр Лаушер, какая-то золотая середина, скажем, между неделей и бесконечным нахождением в санатории.
— То есть рассчитываете не излечиться от болезни, а лишь восстановить некоторую свежесть? — уточнил Лаушер.
— Вот именно, — обрадовался Дубровинский. — Снять чрезмерную тяжесть с плеч, оставить ту, что человеку еще нести по силам.
— Это противоречит врачебной этике, — сказал Лаушер. — Вообще не понимаю, как можно было до такой степени, как у вас, сознательно разрушать свое здоровье?
— Герр Лаушер, я не скрываю, что я русский революционер, а им приходится чаще сидеть в тюрьмах, нежели отдыхать в санаториях.
— Простите, герр Иннокентьев, но, очевидно, только варварские организмы русских могут вообще выживать при таких условиях!
— Простите и вы, герр Лаушер, но я бы сказал иначе: только организмы русских революционеров могут выживать в таких варварских условиях! Но что поделать? Для вас революция — звук пустой, а для нас — цель жизни!
— Не хотел вас обидеть, герр Иннокентьев, я просто не точно выразился. «Варварские» для данного случая — имел я в виду — не изнеженные современной цивилизацией. А то, что вы революционер, и даже офицер революции, и даже приговоренный к тяжелому наказанию, я знаю от моего друга доктора Дюбуше. Через два месяца, обещаю, вы будете чувствовать себя значительно лучше.
Они вежливо улыбнулись друг другу. И Дубровинский написал письмо Ленину, в преувеличенно радужных тонах изображая, сколь успешно идет лечение и как быстро он набирается сил. Впору уже и удрать бы из санатория. К чему бесцельно тратить деньги? Это было на одиннадцатый день по приезде в Давос.
Ленин очень быстро прислал ему ответное письмо. Забравшись в конец наиболее пустынной аллеи, Дубровинский читал:
«Дорогой друг! У нас гостит Покровский. Обыватель чистой воды. „Конечно, отзовизм глупость, конечно, это синдикализм, но по моральным соображениям и я и, вероятно, Степанов будем за Максимова“. Обижают, видите ли, кристальных негодяев разные злые люди! Эти „маральные“ обыватели сразу начинают „мараться“, когда при них говоришь об исторической задаче сплочения марксистских элементов фракции для спасения фракции и социал-демократии!
Выписала этого мараку оппозиция, — мы его не выписывали, зная, что общее свидание отсрочивается». — («Вот как, — подумалось Дубровинскому, — „свидание“, то есть совещание, еще не подготовлено, и сроки точно не определены, а милейший „Максимов“ — Богданов себе из России уже выписывает подкрепление»). И стал читать дальше: — «От Линдова и Орловского…» — Ага, Лейтейзена и Воровского! — «…пока неблагоприятные вести: первый-де болен, второй может приехать только в Питер. Впрочем, на мои письма прямо к ним ответа еще нет. Подождем.