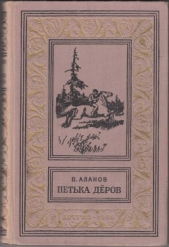Лапти

Лапти читать книгу онлайн
Роман П. И. Замойского «Лапти» — своеобразное и значительное произведение советской литературы. С большой глубиной и мастерством автор раскрывает основные проблемы социалистической реконструкции деревни конца 20-х годов.
«Крестьянство и все то, что происходит в деревне, описано Замойским с той поразительной свободой и естественностью, которых, с моей точки зрения, не достиг еще до сих пор ни один художник, писавший о крестьянстве. Это само по себе есть что-то поразительное», — говорил А. А. Фадеев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это жена, — добавил он.
Часы в конторе показывали без пяти десять.
«Скоро придет».
Торопливо вернулся. И вдруг увидел, что номер выглядит как-то слишком по-казенному.
«Надо убрать, чтобы празднично было».
Убирая, прислушивался к шагам в коридоре. Вот почудилось, что и голос ее, и шаги, и как будто номер его спрашивали, а открыл дверь — глядь, пришли не в семнадцатый, а в восемнадцатый.
«Не протереть ли, кстати, умывальник?»
Но умывальник был чист.
— «Все-таки…».
Потом кровать убрал, подушки взбил, одеяло подправил. Вспомнил: купил две банки рыбных консервов и одну мясных. Вынул, поставил на стол.
Посмотрел на бутылку с кагором: «Это для Пашки».
Себе купил водки. Хотелось ему выпить, но спрятал обратно.
«Вместе уж с Пашкой… Что, если не придет?.. Нет. придет, придет! И надо ж было запамятовать, как зовут последнего сынишку!»
Чувство раскаяния шевельнулось где-то глубоко. За последние годы ничего не слышал о семье, не писал им, и, как они жили, ему было безразлично.
«Сколько же времени теперь?»
Снова отправился в контору. Было около одиннадцати. Спросил швейцара, и тот же сухо ответил, что никто Сорокина не спрашивал.
«Сходить в общежитие? Да-а, ужинает! — вдруг мелькнула догадка. — Ну, конечно! Зря не сказал ей, мы бы и здесь поужинали. Кстати, закажу».
Зашел в ресторан, долго выбирал, чем удивить Прасковью, и заказал на первое пельмени, на второе — шницель.
Обратно шел медленно. Возле двери прислушался.
Нет, тихо-тихо. Отворил и заглянул… Так же стоит стол, стулья, диван, кровать.
Еще чутче прислушивался и, если раздавались чьи-либо шаги в коридоре, настороженно ждал, что вот-вот откроется дверь и войдет она. Он слегка упрекнет ее, а она будет оправдываться. Но шаги затихали у чужих номеров.
Подошел к окну. На улице было темно, и собирался дождь. Изредка проносился трамвай, и, хотя улица была пустынна, он отчаянно звонил.
Если до этого время шло медленно, то теперь оно неудержимо мчалось. Кто-то опять остановился возле двери. Легкий, робкий стук.
— Пашка, черт! — чуть не крикнул Степан.
Вошел официант, принес ужин.
— Скажите, сколько сейчас времени? — срывающимся голосом спросил Степан.
— Без десяти двенадцать… Посуду сегодня убрать или завтра?
— Завтра, — сухо сказал Степан.
И вот — на столе дымящаяся кастрюля с пельменями, на металлической тарелке — два розовых шницеля, приправленные картофелем, морковкой, горошком.
«Входные двери не запирают до часу ночи… Нет, черт знает что такое! Зачем же тогда обещалась? А может быть, заседание было до десяти с половиной. Там ужин, а там еще идти».
Однажды так же, — давно это, еще в деревне, — уговорился он с ней встретиться возле церкви. Дело было осенью. Ждал ее почти до петухов и сильно продрог. А когда пришла и он начал ее укорять, она сквозь смех сказала: «Это я нарочно. Ежели любишь — дождешься, а нет — уйдешь».
В коридоре шагов больше не слышалось. Все, кто жил в номерах, пришли. Степан сидел за столом, уставившись на кастрюлю с пельменями. Пока шел приятный запах, ему хотелось есть, но потом, когда пельмени стали остывать, аппетит прошел. Вокруг шницелей жир лежал, как мутный лед.
Тихо. И то, чего не слышно было днем, стало слышно ночью: гулко били в конторе часы.
Двенадцать! Он сидел в мягком кресле, одолевая дремоту. Вздрагивая, просыпался и опять дремал. Когда проснулся в последний раз, в номере не было огня.
— Значит, больше двух часов. Конец…
Не раздеваясь, повалился на диван и тут же уснул… Проснулся от громкого стука в дверь.
— Кто? — вскочил он, забыв, где находится.
— Письмо получите, — произнес из-за двери мужской голос.
— Письмо? — пробормотал он и подошел к двери.
На конверте было: «Семнадцатый номер, Сорокину».
Трясущимися руками разорвал конверт и уселся к окну.
«Степа, ты небось ждал, а я не пришла. Заседание кончилось поздно, потом ужин, а поезд уходит в восемь. По этой причине и не зашла. Ты этому не поверишь, но скажу тебе: мне жалко тебя. Вижу, ты от всего сердца говорил. Все время, пока была на заседании, думала и так и эдак. Сперва радость охватила — вот и опять мы как люди, у детей отец, а у меня муж. И опять думала и все больше и больше к такой мысли приходила: «Зачем? Года ушли, дети выросли, сухота кончилась, скоро внучат буду ждать. О детях, стало быть, разговору нет».
Теперь о нашей жизни. Ну, ты вроде опять муж, а я твоя жена… Дальше что? Начинай сначала? И могут народиться еще дети? Нет, хватит. И еще это, ты подумай — как мы можем деревню покинуть и к тебе ехать? Я заместитель председателя сельсовета, и мы с Дашкой главные среди баб, а Петька — секретарь комсомола. И ежели мы уедем из села, кто останется? Алексею недолго быть у нас. Его на работу по специальности зовут.
Так-то, Степа. А что вспомнил о нас, хорошо, и я злобы на тебя не имею. Мне только в первые годы было тяжело, потом свыклась.
Ну прощай! Не думай о нас.
Прасковья»
Все перепуталось в голове. Огненными клещами сжало сердце. Посмотрел на пельмени — синюю воду с крупинками жира, на распластанный шницель.
Быстро сбежал вниз, взял документы, посмотрел на часы: девять с половиной.
На улице мелкий дождь.
Путь указанный
Дневник Сатаров вел тайно. Тетради прятал в своем сундуке, наполненном разными книгами.
На пронумерованных тетрадях повторялся один и тот же заголовок: «Для истории движения по новому руслу к жизни крестьян с. Леонидовки».
Сатаров читал много. Особенно увлекался романами, запоминая их почти дословно, и, если выпадал случай, охотно пересказывал.
Пробовал и сам было написать нечто вроде повести о деревне, но получилось, как он в записи определил, «чересчур мысленно».
«От наплыва рассуждений страдаю. Как избавиться от этого — подумать надо».
«Вчера, — начал запись Сатаров, усевшись на чурбак, — опять было собрание. Здорово эти собрания надоедают, а мне пуще всего. Все я и я секретарь. Облюбовали меня за склад изложения, и нет покою. Вчерашнее собрание, не в пример другим, было в новом клубе, в церкви. Сотин так предложил: хлеб из церкви вывезти, пущай кино орудуют. Про кино обязательно упомяну для истории. И не про кино, а про народ! Не шел он, хотя кино и бесплатное. Час проходит, другой — нет.
В ограде куча девок с бабами. Я вышел к ним.
— Эй, — крикнул, — аль боитесь?
— Трахнет вас бог, — отвечает одна, а чья — в темноте не разгляжу.
— Трахал один, — смеюсь, — да упал.
А девкам, видать, охота пойти, только бабы стыдят. И давай я тогда возле девок вертеться.
— Крали вы курносые, могут даже танцы быть.
Мнутся девки, шепчутся.
— Не хотим бесплатного, — кричат.
«Э-э, — подумал я, — врете. Конечно, гривенник на дороге не найдешь и жалко вам его, да только тут психология. Не верят в бесплатность, нет к ней уважения». Шепнул я Алексею: так и так. Он дает мне наставление:
— Объяви: колхозников и колхозниц пускаем бесплатно, а единоличников за гривенник.
Тоже учел психологию. Вышел я и объявил. И поднялся ропот. Колхозные бабы и девки сразу поближе, кто-то присвистнул по адресу единоличников, а те заволновались — и кто гривенник сует, кто тоже лезет бесплатно. Гривенника я не беру, билетов-то нет, а будто под напором массы отступил в колокольню и притворно ругаюсь:
— Это безобразие одно! Вам сказано — платный, а вы на дармовщинку?!
— Ты-то уж молчи, долбоносый, — оскорбляют мою личность и прут еще сильнее. А нам того и надо.
Кажись, о кино рассказал. Для истории пригодится, как мы святость нарушили и угодникам подорвали авторитет. Буду писателем, повесть об этом вымахну. Только боязнь: пока стану писателем, бога совсем изничтожим… Эх, бежит наша жизнь, и не догнать ее. А зачем догонять? Мы сами ее гоним. Жизнь — поезд, мы — паровоз. И мчимся, но куда? Хочется сказать — заре навстречу, но опять постигнет наплыв рассуждений…