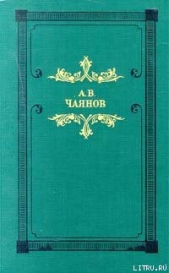Венецианское зеркало (сборник)
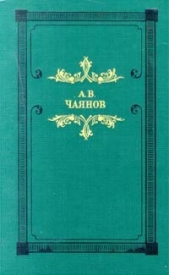
Венецианское зеркало (сборник) читать книгу онлайн
Известный советский ученый – экономист с мировым именем, автор трудов по истории науки, истории Москвы, искусствоведению, А. В. Чаянов (1888–1937) был еще и оригинальным писателем-беллетристом. Цикл предлагаемых читателю повестей являет собой цепь увлекательных, остросюжетных романтических историй о Москве начала XIX века, и в этом смысле наследует творческие концепции Пушкина, Одоевского, Вельтмана.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Видение показало мне смерть Жанеты, и я усилием своей воли бросил шотландца головой об угол печки.
Видение пропало, а трехугольник рассыпался в прах, оставив ощущение ожога. Я бросился на диван и забылся тяжелым сном.
Нужно ли рассказывать о беспредельном ужасе моем, когда утром я подошел к дому Жанеты, чтобы рассказать ей об ужасном сновидении, увидел дом, окруженный толпой, ее задушенной, а в углу комнаты с разбитым черепом лежащего виденного мною ночью шотландца. Жизнь для меня потухла. Я понял, что выиграл у лондонских дьяволов человеческие души».
Речь Бенедиктова становилась бессвязной. Он хмелел все больше и больше. Видение прошлого терзало его мозг, он опустился глубоко в свое кресло и, сильно затягиваясь, курил свою трубку с длинным чубуком. Бледный, как смерть, рассказал он, как овладел душою и телом молоденькой леди, только что вышедшей замуж за члена Верховной Палаты лорда Крю, и раздавил ее жизнь, как раздавливает полевой цветок тяжелая нога прохожего; как не мог он даже в тумане увидать владетеля души с Пентоклем Альдебарана.
Петр Петрович открыл шкатулку и показал мне четыре оставшиеся трехугольника, рассказав, что пятого талисмана Настенькиной души – он не мог найти в пруду Марьиной рощи, куда его она забросила.
Совсем охмелевший Венедиктов бил кулаком по платиновой пластине неведомой души, приказывая ей явиться перед ним и посылая проклятья. Затем стих и охотно согласился сыграть на мою душу в пикет, в который мне не трудно было его обыграть весьма скоро. Трепетной рукой взял я дьявольский трехугольник. Свечи догорели и гасли. При свете коптившей светильни видел я, как Венедиктов опустился своей тяжелой головой на стол.
Когда я бежал по Мертвому переулку мимо церкви Успенья, что на Могильцах, на Спасской башне пробило три.
Сердце мое билось, глаза горели, когда шлепал я по осенним лужам и шел, подавленный кругом невиданных событий.
Ночная Москва поглотила меня. Не помню, где я ходил. Срамная баба кричала мне вслед, задирала свои юбки и звала меня в канаву… два раза окликали меня будочники. Очнулся я, заметив перед собою отблески света. Оглянулся и увидел ярко освещенную станцию дилижансов легкой курской почты.
Это было единственное место, где мог я укрыться от накрапывающего дождя и собраться с мыслями в ожидании рассвета. Вошел и отряхнулся от капель. Дождь полил с удвоенной силой. Большая комната почтовой станции была тускло освещена двумя фонарями.
Направо у столика с двумя полуштофами сжались в кучу несколько посетителей, за стойкой дремал хозяин, – пожилой уже ярославец, налево за большим столом в полном одиночестве сидел постоялец, увидав которого, я невольно вздрогнул.
Это был странный офицер, с которым столкнулся я прошлою ночью. Он сидел и писал. Тускло мигавшая, нагоревшая свеча освещала его старомодный дорожный мундир, высокие ботфорты, и снова напомнил он мне героев Семилетней войны.
В комнате чувствовалось напряжение чрезвычайное, посетители, на вид люди бывалые, казалось, стихли, как стихают мелкие пичуги, завидев приближение ястреба. Рюмка не лезла им в горло, и хмуро смотрели они на офицера, пишущего что-то на полулисте бумаги плохо обрезанным и скрипучим пером. Бросив перо и сложив написанное вчетверо, незнакомец встал и, звеня шпорами, направился к выходу.
«Приготовь лошадей, Петрухин, через час я уезжаю», – сказал он хозяину и вышел под потоки яростного, булькающего в лужах дождя.
«Душегуб проклятый!» – процедил сквозь зубы какой-то помятый человек, в котором нетрудно было узнать архивного регистратора.
«Не к добру эдакая встреча», – поддержал его приятель и взялся за полуштоф.
«Эй, смотритель, это что за цаца?»
«Сейдлиц», – отвечал степенный ярославец с какой-то особой боязливой и почтительной осторожностью.
«А кто он такой?»
«А кто его знает! Болтают по-разному. Года два назад стоял он в Новотроицком и выбросил в окно шулера Берлинского. Сказывают, помер!»
Фамилия показалась знакомой, и потертый человек, еще больше съежившись, рассказал, что слыхал он, будучи в Питере, о каком-то Сейдлице, не к ночи его помянуть, появившемся на свет Божий диковинным образом. В те поры, рассказывал он, в Париже орудовал некий Месмер и из людей всяких какой-то палочкой веревки вил; что скажет, то человек ему и сделает, чем велит, тем человек и прикинется. Скажет – быть тебе, ваше превосходительство, волком, – его превосходительство окорачь ползает и воет. Скажет графине, что она курица, – она и кудахчет.
Так вот, сказывают, велел он одному немецкому гусарскому полковнику, что будто он на седьмом месяце беременности. У того живот-то и вздулся, а Месмер-то этот самый тут же от натуги и помер. Расколдовать гусара никто не мог, а месяца через два он помер, и лейб-медик короля прусского вырезал у него из живота ребеночка, зеленого всего, склизкого, с большою головой…
Рассказ прервался скрипом двери и звяканьем шпор. Сейдлиц вернулся и бросил смотрителю кожаный мешок и письмо, запечатанное пятью сургучными печатями. «Утром отправить к коменданту», – сказал он резко и снова направился к выходу. Все примолкли. Покров ночного ужаса раскрылся над нами. Все мы заметили отчетливо, что, несмотря на проливной дождь, плащ Сейдлица не был смочен ни одной каплей воды. Вскоре я расплатился и вышел.
Утренний сон освежил меня заметно. Сквозь опущенные занавески просачивались солнечные лучи. Круглые солнечные зайчики наполняли комнату спокойным полусветом, играя то на фарфоровом китайце, то на резной рукоятке пистолетов, подаренных отцу Румянцевым-Задунайским и висевших над диваном, служившим мне постелью.
Я чувствовал полное освобождение от гнетущей меня последние месяцы тягости, но почему-то даже не вспомнил о выигранном трехугольнике. Так незначительной казалась мне моя собственная судьба. Душа моя была опустошенной. Ни радости, ни горести я не ощущал. Мне как-то ничего не хотелось. И только одна мысль о Настеньке наполнила мою душу сиянием.
Но что я был для нее? И в то же время, чем я был без нее?
Когда я вошел в синенький домик, там все сияло радостью. Марья Прокофьевна с засученными рукавами клала на подушки сдобный крендель. Розмарин и чайное дерево благоухали запахом радости. Белая кошечка в новом голубом бантике от радости особенно круто выгибала спину. Струны клавикорда, казалось, сами были готовы звенеть Моцартовы песни. Настенька перед зеркалом поправляла свои локоны и складки на кружевной накидке своего шуршащего белого платья. С горестным чувством мучительной ревности выслушал я, что Бенедиктова ждут через час, – к двум, что отец Василий от Параскевы Пятницы прибудет сам для обручения, и что я такой необыкновенный, такой любезный, такой счастливый на руку человек.
Пробило два. Пришел дядя Николай Поликарпович с супругой в граденаплевом платье, две-три молоденькие девушки с большими бантами на головах, подруги Настенькины театральные. Попробовали кренделек. К трем пришел отец Василий. Радость омрачалась тревогой. Закусили. Поговорили о Бонапарте, еще раз закусили. Отец Василий ушел, сказав, что придет к пяти. Стало томительно и страшно. Я подавлял в себе преступное чувство радости и, наконец, предложил сходить к Венедиктову, узнать в чем дело. Поймал на себе взгляд Настеньки, полный надежды и благодарности. Чуть не бегом пустился по Петровке.
Когда подошел я к Арбатской площади, мне бросились в глаза встревоженные лица прохожих и какая-то растерянность во всем. Меблированные комнаты «Мадрид» нашел я окруженными большою толпой простого народа, а в стороне знакомую коляску обер-полицмейстера. Половые и полицейские долго меня не пускали, а когда я назвал себя и сказал, что надобен мне Петр Петрович Венедиктов, чьи-то досужие руки взяли меня за локти, и я был втолкнут без особой учтивости в 38 номер, войдя в который, остолбенел.
В комнате все было перевернуто и носило следы отчаянной борьбы. Посредине, среди обломков кресла и скомканного ковра, лежал Петр Петрович с проломленным черепом, а штабс-капитан Загорельский допрашивал побледневшую дородную содержательницу номеров.