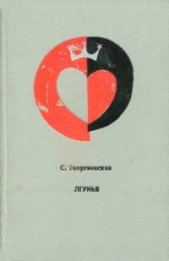Светлые города (Лирическая повесть)

Светлые города (Лирическая повесть) читать книгу онлайн
«СВЕТЛЫЕ ГОРОДА» — новая повесть С. Георгиевской. Как и большинство ее повестей («Бабушкино море», «Серебряное слово», «Тарасик», «Галина мама», «Жемчужный остров», «Отрочество» и др.)» она глубоко современна.
Петр Ильич Глаголев — архитектор, проектирующий города будущего.
И хотя повествование ведется от автора, книга по существу как бы единый, взволнованный монолог самого героя — монолог, в котором причудливо переплелись мысли о своем труде, мечты и чаяния архитектора Глаголева, его отцовская любовь, сожаления о прошлых ошибках и жажда счастья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Еще как люблю!..
— О!.. Так мы это сейчас устроим. Я познакомлю вас с наилучшим, с самым лучшим танцором.
— Хорошо. Ну, а пока мы вас очень просим, выпейте с папой.
— Дитя мое, я не пью. Не пью совсем. А впрочем. Русские любят тосты. Вино — это часто повод для тоста. Не так ли, Вики? За что же, дитя мое?.. За любовь. За плен.
— За плен? — удивилась она.
— Ну да… За любовь-плен, — ответил старик. — Вы разве еще не знаете, что любовь — плен?
Старик исчез. Петр Ильич уже начал было надеяться, что Керд о них забыл.
В закрытом помещении ресторана, где был оркестр, заиграла музыка.
И вдруг Петру Ильичу показалось, что кто-то пристально смотрит ему в затылок.
За его плечами, у столика, сидел архитектор Райк. Но не на Петра Ильича он глядел, а на Вику. Петра Ильича раздражал этот взгляд. Он вспомнил, как сильно сердился, когда разглядывали Клаву.
Конечно, Клава была вызывающе хороша. А Вика?
…Сросшиеся брови, тяжелый, чуть выступающий подбородок, быть может и выражавший скрытую силу… Нет! В лице его дочери не было того обезоруживающего, наивного выражения, того таинственного очарования, которое делало иногда столь прелестным лицо ее вздорной, вульгарной матери.
Подойдя к их столику, Райк поклонился Петру Ильичу и, чуть наклонив голову, пригласил Вику.
Она не соизволила не то что принять его приглашение, но даже ответить ему на поклон. Вика смотрела вперед. Любительница природы залюбовалась морем.
— Вика!.. С тобой здороваются, — сказал Петр Ильич.
— Ах, да! Извините, я задумалась…
— Вика! Товарищ Райк приглашает тебя танцевать.
— А мне не хочется… Жарко. И туфли жмут.
Она принялась доедать котлету…
Райк отошел. Петру Ильичу почудилось, что на лбу у бедняги выступили капельки пота.
— Вика, что это значит?! Ты кто? Дикарь?
— А мне неинтересно с ним танцевать. И неинтересно здороваться. Он — зануда.
— Что?!.. Ну, знаешь, матушка…
Музыка умолкла. В наступившей тишине послышались шум моря и голоса у соседних столиков.
И вдруг заиграли опять. То, что играли, не было танцевальной музыкой, не повторяло ни одной хоть сколько-нибудь знакомой мелодии. Из глубокого ровного поля звуков вырвался незавершенный звук трубы. И снова: рояль, скрипка. И вдруг опять труба. Она умолкала на самом высоком тоне, оставляя после себя острую тоску и волнение.
Перестали играть. Последним был высоко взвившийся звук трубы.
Петр Ильич оглянулся и увидал Керда, торопливо шагавшего к их столику. Он вел за собой молодого человека невысокого роста, с очень спокойным, безмятежным лицом и гладко зачесанными белокурыми волосами.
— Познакомьтесь, пожалуйста, — запыхавшись, сказал Керд. — Это наилучший танцор, Вики. Увидите!
— Лихтэн-Соколя. Мишель.
— Глаголева. Вика.
— Лихтэн-Соколя.
— Глаголев.
Заиграли вальс.
— Он — трубач. Его дед был русским, — зашептал Петру Ильичу Керд, когда Вика и «наилучший танцор» отошли от столика. — Он местный. Таллинский. Здесь и родился. Юноша с очень сложной судьбой. Но прекрасный, ровный характер… А впрочем, об этом после. Я попросил… Его отпустили товарищи. Он действительно хорошо танцует.
— Вы сказали — трубач?
— Да, да… Трубач. Он учится в консерватории, Будущий преподаватель вокала.
— Преподаватель вокала? А я думал — балета. Он смахивает на лебедя. И притом — умирающего. Посмотрите-ка на выражение его лица… А впрочем, я и сам не буду смотреть. Еще рассмеюсь, чего доброго.
Керд дробно, по-старчески захохотал.
— Умирающий лебедь?.. Но почему же, дорогой друг? Спокойный, выдержанный, красивый молодой человек.
— Но у меня такое впечатление, что он сейчас вспорхнет и мерно, с глубочайшей значительностью поплывет в воздухе.
Музыка оборвалась.
Поддерживая Вику под локоть, «наилучший танцор» возвращал ее Петру Ильичу. Лицо его было спокойно, чуть ли не высокомерно. Только волосы слегка растрепались.
Он поклонился Петру Ильичу и, не глянув на Вику, будто исполнив, в угоду старому другу, скучнейший долг, ушел в закрытое помещение ресторана.
Петр Ильич поскорее отвел глаза от узкой спины музыканта… «Мишель! А осанка?.. Осанка?..»
Петр Ильич боялся захохотать вслух.
Когда ресторан закрылся, Керд предложил Петру Ильичу и Вике пройти пешком до следующей остановки автобуса, показать им развалины монастыря Святой Бригитты.
Впереди был лесок. Когда-то давно его высадили на каменистую песчаную почву Эстонии.
Деревья стояли теперь почти ровными рядами, не отнимая друг у друга света и солнца.
Как он был непохож на русские леса!
В русских лесах, даже пригородных, густо, богато, прохладно. Над лесом как бы носятся воспоминания— рассказ о прошлом этого леса. Они — в его земле-суглинке; в неровной толще его стволов; в том, что ель частенько перемежается с лиственницей, и в том еще, что, пусть ободранный, повытоптанный, — он все же лес, густой и богатый. Лес, перелесок, лесная опушка…
В Эстонии, где земля каменистая, где ценят цветы, где без них не жить, как не жить человеку без хлеба, где когда-то люди на собственном горбу таскали землю, чтобы засыпать ею камни для того, чтоб она плодоносила, каждое деревце — дерево. Пусть небольшое, но оно будет стоять неприкосновенно и свято в том месте, куда его высадили. Тут, когда проходишь по широкой дороге, которая делит лес надвое, доносится из лесу женский смех. Влюбленные бродят открыто меж редких деревьев, бродят обнявшись, и это здорово заметно. У деревьев такие тощие ветки.
Керд, Петр Ильич и Вика шли по лесу. Под их ногами шуршали песок и щебень.
Ленинград, Мурманск, Таллин — светлые, бессонные города, что может сравниться с величием ваших небес?
Ночь… Она опрокидывает на землю свой белый свет, похожий на лунное сияние. Небось весь день напролет караулила, чтоб побыстрей обволочь Пирита; лечь на море; вытолкать в загривок на улицу влюбленных; прошмыгнуть в щели окон, занавешенных шторами, шторками, одеялами, скатертями.
Повсюду она — в усталой руке Вики, опершейся о плечо Петра Ильича, в очертаниях крыш, в ленивых, как будто размытых изгородях вокруг садов.
Все чуть тронуто светом, нежно, невыразимо и странно печально. Дремлющая ночная северная земля, — как ей к лицу белая, долго длящаяся северная ночь.
И вдруг в тишину ворвался звук торопливого, почти бегущего шага.
Петр Ильич замер… Райк?!
Она уйдет. Скажет громко: «Я же не виновата, папа, что он зануда»… Да мало ли что она может сказать, его воспитанная дочь?!
…Не Райк!
Петр Ильич перевел дух.
Их нагонял трубач из пиритовской ресторации.
Молодое лицо трубача казалось еще бледней и невозмутимей от белого света ночи. И если быть справедливым, Керд был, пожалуй, прав. Лицо юноши на самом деле казалось значительным — продолговатое, с правильным носом и широко расставленными глазами. Лицо эстонца, вырезанное на спинках старинных стульев, стоящих в ратуше.
Почти совершенно разрушенный монастырь Святой Бригитты сохранил в себе торжественность, крупность и пышность готики. И строгость ее. Весь из вытянутых ввысь стен.
Эти стены сияли пустыми глазницами. В глазницы глядело небо. Фронтоны, венчавшие монастырские стены, тянулись ввысь. Куполом здания было небо — белое, без солнца и луны, ровное, как кусок отбеленного полотна. Остов монастыря казался кружевом из неба и камня.
…Побыть бы тут одному с Викой! Как это хорошо было, когда они шли вдвоем из Мюривальдэ в Пирита. Вместе с ней, в этой тишине, рядом со стенами монастыря, которые взывали к нему, как музыка, заставляя мечтать и надеяться.
…«Все не то, не так», — говорил себе о себе же самом Петр Ильич в такие лучшие, самые светлые для него минуты не размышлений, а чувств. Так он думал, когда видел сооружение великое, хотя и вовсе невозможное для подражания.