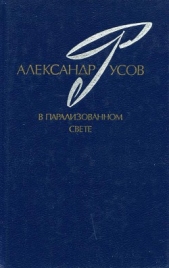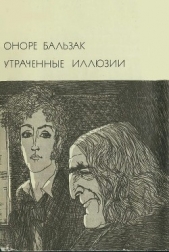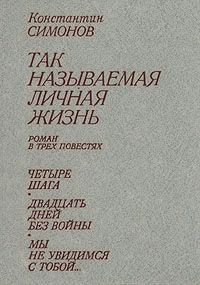Иллюзии. 1968—1978
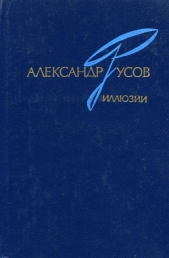
Иллюзии. 1968—1978 читать книгу онлайн
Повесть «Судья» и роман «Фата-моргана» составляют первую книгу цикла «Куда не взлететь жаворонку». По времени действия повесть и роман отстоят друг от друга на десятилетие, а различие их психологической атмосферы характеризует переход от «чарующих обманов» молодого интеллигента шестидесятых годов к опасным миражам общественной жизни, за которыми кроется социальная драма, разыгрывающаяся в стенах большого научно-исследовательского института. Развитие главной линии цикла сопровождается усилением трагической и сатирической темы: от элегии и драмы — к трагикомедии и фарсу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Он гнался за нами, ты слышал?» — «Что-то скрипнуло, потом зашевелилось в углу». — «И пошел дым». — «Не дым, а пыль». — «Он сидел там!» — «Дверь мы оставили открытой?» — «Теперь он выйдет и будет мстить. Ведь мы узнали его тайну». — «Кто пойдет закрывать?» — «Ты бежал последним». — «А ты трусишь, да?»
Я старался различить очертания мягковского дома, но кусты акаций с нашей стороны так сильно разрослись, что погребли здание, и оттуда не доносилось ни одного живого звука.
Мягковский сад, казалось, замер, как полная людей и вдруг притихшая на миг аудитория, после того, как ты вел ее по логической лесенке доказательств, и, наконец, до вершины осталось сделать последний шаг — записать последнюю формулу. И такая тишина, когда с мелом в руке ждешь, кто первый поднимет голову от тетради, потом второй, третий, и вот уже пошел по рядам легкий шумок, и нужно, не дожидаясь, пока реакция аудитории станет неуправляемой, сбить его шуткой, разом снять накопленное напряжение и только после этого продолжать, вернее начинать новый подъем.
Кроме того, стоя у окна, я увидел несколько полых, упругих сфер, которые плавали в воздухе и иногда лопались — целая вереница прозрачных, переливающихся шаров разной величины. В одном из них отражался наш сад и дом, в другом — солнце, кусочек подвижного расплавленного металла, а третий тяжело плыл над землей, и в нем выпукло отражались переплеты окон.
— Что ты там делаешь? — услышал я голосок сестрицы.
Она стояла под окном со своим приятелем, по виду школьником (вчера днем она кокетничала с ним у забора), и с бумажных раскисших на концах трубок, которые они держали в руках, скапывала мыльная пена.
— Смотрю на то, как вы пускаете пузыри.
— Этого мальчика зовут Алеша Пурин, — объяснила Марина со смехом. — Ему четыре года и восемь месяцев.
— Очень приятно, — сказал я.
Алеша Пурин шмыгнул носом. Я отступил в глубь комнаты.
Два мыльных шарика плавали на уровне окна, и на их поверхности пульсировали водянистые точки — признак скорой гибели. Я подумал, что этими шарами можно воспользоваться на лекциях в качестве модели возбужденного состояния атома. Что же касается Алеши Пурина, то он напомнил мне курьезный случай этого года. Я торопился на лекцию. Бородатый человек могучего телосложения остановил меня вопросом: как найти нашу лабораторию?
— Третий этаж, — сказал я, и незнакомец удовлетворенно хмыкнул.
— Слушай, паренек, может, знаешь, где Березкин работает? — Он заглянул в шпаргалку. — Андрей Александрович.
— В триста сорок третьей.
— Что, тоже оттуда? — спросил незнакомец с добродушной улыбкой человека, прячущего в кулаке подарочный леденец, давая понять, что замечательная догадка и моя внешность расположили его к долгой, задушевной беседе.
— Подниметесь по этой лестнице, — сказал я, — там найдете. Только придется ждать.
— Диплом делаешь? — продолжал незнакомец. — Я уж два года, как защитил. И тут же справился: — А что, добрый человек этот Андрей Александрович? Я, понимаешь, из Свердловска проконсультироваться приехал. Старый он?
Я подумал: может, мы оба с Алешей такие — непохожие на самих себя жертвы акселерации?
Еще в связи с зыбкой фактурой мыльных шаров я вспомнил сон, который приснился мне под утро и который, если подыскивать эквиваленты, точнее всего назвать «искушением святого Антония». Не итальянским сюрреалистическим «Искушением» начала шестнадцатого века и даже не босховским «Искушением», а «Искушением святого Антония» Калло с апокалипсическими фигурами чудищ и хулиганскими деталями, придающими всей этой мягко нарисованной вещи грустный оттенок. Мне снилось искушение в виде драконов, извергающих ад и пламя, гипертрофированных фигур босховских чудовищ, изображенных чуть ли не в четвертую часть листа, а за всем этим стоял маленький, почти незаметный на рисунке, побеждающий этих чудищ святой человек.
Потом приснилась большая клетка, в которой моя дочь играла в куклы. На клетке висела дощечка с надписью: «Отцовские посещения только по воскресеньям. Совместные прогулки по зоопарку». Сон был страшный, хотя никаких ужасов в нем не было. Я старался не вспоминать его и вообще пытался не думать о вещах, не относящихся к практическим действиям ближайших минут.
В ящике для инструментов я разыскал старую голубковскую бритву и пачку лезвий «Нева». Ума не приложу, как случилось, что они уцелели в нашем доме, подверженном генеральным маминым уборкам, во время которых выбрасывалось огромное количество лишних вещей. За исключением книг, это, должно быть, единственное, что сохранилось от Голубкова. В доме, где полновластно царствовали теперь три женщины, мужчины не оставили заметного следа, и даже посаженный отцом сад пришел в такое состояние, что совершенно потерял свое лицо. Но таким он мне больше нравился: запущенный, дикий, похожий на обветренного далекими ветрами и обросшего горожанина, вернувшегося из глухомани.
Колодезная вода обжигала щеки, отвыкшие от безопасной бритвы. Я понял, что мне не хватает маленького закутка умывальни, чтобы в полной мере насладиться лукинской водой, освященной памятью тех далеких жарких дней, когда мы с Сашей Мягковым устраивали всемирный потоп, разрушавший нами же построенные из песка крепости. Тело быстро высыхало, а потом кожа вновь становилась такой горячей, что больно было дотронуться.
— Скорее одевайся и садись завтракать, а то опять все остынет.
Я подошел к столу, за которым осталась сидеть одна бабушка. Перед ней лежало несколько газет. Судя по неровно заглаженным перегибам, они были уже прочитаны. Я поцеловал мягкие волосы, напоминающие тонкий, прохладный пух, и уселся напротив.
— Пишут о большой химии и о химиках, — сказала бабушка, положив изуродованную подагрой руку поверх газеты.
Раньше, когда я приносил в дом утреннюю корреспонденцию из почтового ящика, прибитого к забору рядом с калиткой, бабушка с готовностью уступала мне первую очередь, и эта жертва, казалось, доставляла ей радость. Если я первым брался за чтение, она еще тише, чем обычно, ходила по дому, наблюдая со стороны, словно пытаясь правильно истолковать выражение моего лица.
«Это ужасно, когда человек замыкается в мире личных переживаний», — любила она повторять, обращаясь то ко мне, то к маме. Под «личными переживаниями» она имела также в виду мою постоянную занятость.
Сама же бабушка, думается, раз и навсегда, еще в начале века, научилась воспринимать газетные новости, частную жизнь и ход истории как нечто цельное и взаимно обусловленное. То есть, хочу я сказать, она всегда, когда требовалось, умела растворить свою судьбу в деле, которым занималась, — это было не жертвой, а потребностью для нее, и потому она как никто другой умела искать и находить в частном целое — почти так же профессионально, как умеет это делать мама, когда окидывает одним взглядом мелкую рябь красочных мазков, соединяя их в одно изображение.
Ей даже как-то удавалось совмещать газетные сообщения, эти большие радости и трагедии, с нашей провинциальной жизнью в Лукине. Ведь мы хорошо знали: бабушка, читающая газеты, и бабушка, суетящаяся у стола, чтобы накормить каждого, кто переступит порог дома, — это все та же любимая наша бабушка Софья. Мамина печаль, Маринкины заботы, мой приезд — и это каким-то образом должно было вместиться в общую картину мира, возникающую перед ней с неизбежным постоянством в тот утренний час, когда, шурша газетными страницами, она склоняется все ниже, чтобы разглядеть мелкоту букв. И когда неловко перевернутая страница, соскользнув с колена, почти неслышно ложится на пол, она наклоняется, чтобы поднять ее. Если же кто-нибудь поспешит опередить бабушку, она неловко улыбнется, словно бы извиняясь.
Но, может, она нарочно роняет газету? Маленькая хитрость воспитателя в надежде, что кто-то обратит внимание на упавший лист. «Вы читали?» — спросит тогда она как бы невзначай, поскольку первое и самое главное, чего ждет бабушка от каждого утра, — это газеты. Мне всегда казалось удивительным: утренняя передача по радио последних известий, тихий звон наушников под подушкой, чтобы не разбудить Марину, досрочно приносят ей то, что часом позже принесет почтальон. Тем не менее еще до завтрака она погружается в мир едва шелестящих от дрожания руки газетных страниц с жадностью путника, утоляющего жажду, черпая в них подкрепление своим угасающим день ото дня силам.