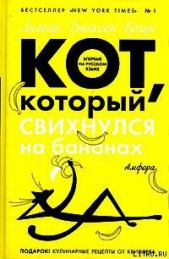Старинная шкатулка
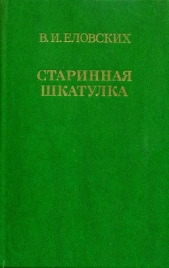
Старинная шкатулка читать книгу онлайн
В книгу старейшего писателя Зауралья вошли рассказы и повести разных лет. Некоторые из включенных в сборник произведений ранее увидели свет в издательстве «Советский писатель».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, видно, смерть пришла.
Он подивился, до чего спокойно сказала она это.
— Да хватит тебе! Сейчас уже надо потихонечку да полегонечку жить-то. Вот если старой, изнахраченной машине дать большую скорость — сразу сломается. А потихоньку, полегоньку идет себе да идет. Так и человек. Все молоденькой охота быть.
Ему хотелось перевести разговор на шутку. Но старуха уже не принимала шуток. Они, видать, были ей даже неприятны.
— Да чо уж! Молоденькой… Была когда-то и молоденькой. — Вздохнула. Помолчала, подумала: — Лежу вот и все вспоминаю. Вспоминаю. Чего только не вспоминаю. Молодость больше. Когда и что было… Обидел ты меня тогда, Николай, чего уж… — Она отводила глаза. Глядела куда-то в дальний угол.
— Когда это?
— Еще спрашивает когда.
Она глянула на него. В ее глазах он увидел виноватость и подумал: «Кто же из нас виноват?»
— А, ты про то…
— Про то, про то!
— Да что тут вспоминать-то, елки-палки!
— А вот вспоминается.
— Нечего и вспоминать.
— Значит, даже вспоминать не надо? И как тебе только не стыдно?
— А за что стыдно-то? Нет, в сам деле. Ну, если б я тебя обесчестил. Оставил бы с робеночком или как-то там. А то ведь ничего ж такого не было.
— Эх, Коля ты, Коля!
Ему показалось, что в ее потухших, по-старушечьи обесцвеченных глазах мелькнул огонек.
«Она чувствует не свою, а мою вину». Когда он пытался оправдываться в чем-то, голос у него становился неприятно напряженным, тяжелым. Таким он был и сейчас. А хотелось говорить просто, мягко, душевно.
— Но, слушай, ничего ж не было. Ты чо хоть?..
— Не было… — повторила она с укоризной. — Да как это не было?!
— Ну, может, что-то там… маленько. И уже больше полвека прошло. Ну, дружили когда-то. Так что такого? Вот если бы оставил с робеночком, к примеру.
— Да ладно тебе!… — Она слабо махнула рукой.
— Что ладно? Да что ты в сам деле?!
— Н-не надо!
Где-то на улице зачирикали воробьи. Видимо, они чирикали и раньше, только Николай Петрович не слышал: когда он нервничает, у него обостряется слух.
Семеновна опять глядела куда-то в угол. Левая подглазница у нее быстро подрагивала.
А все же несовершенная штука — память: порою и важные события помнятся как-то неясно, тускловато, будто во сне привиделись, а бывает, сущая пустяковина, мелочь вспоминается ярко, во всех подробностях, будто это произошло вчера. Лет этак шестьдесят назад, бродя в глухом урмане, верстах в пяти от села, он набрал возле старого пенька полнешеньку корзину опят. Подумаешь, событие! А до сих пор помнит, какой толстенный и, если можно так выразиться, солидный, важный был пенек, как дружненько, бок о бок росли возле него опята и какой милой, приятной была обратная тележная дорога — травянистая, с прозрачно-сумрачной водой в глубоких колеях и прохладным, тенистым леском по обочинам. И так же вот хорошо помнится все то, что было связано с Машей. Это уже не пенек с опятами. «Связано с Машей», — какие холодные слова. Не те слова. И как легко сказано «помнится».
…Это была его первая любовь, а она, говорят, самая сильная. Во всяком случае, у Николая Петровича была самой сильной, одновременно радостной и тревожно-мучительной. Чудным кажется теперь все тогдашнее: он без конца думал о Маше — когда засыпал, когда просыпался, косил траву, колол дрова, вывозил навоз, она все время будто перед глазами стояла: звонкоголосая, тонконогая, с большущими, как ему казалось, глазищами, которые так и ласкали, так и горячили. На рукаве выцветшего платьишка — заплата, обувка старенькая, стоптанная, а все одно — прелесть девка. Отец Машин, глуховатый мужичок, считался в селе голью перекатной: двухоконная избенка, тощая коровенка — вот и все его богатство. Николаю Петровичу кажется, что нынче уже так не любят. Как-то слишком уж рассудочно, холодно любят, любят, не любят — не поймешь. Во всяком случае, вроде бы не радуются и не страдают.
Так что же все-таки было у них? А то, что бывает у всех возлюбленных. Обычное… Темные вечера у бурливой прохладной реки. Или на старой прогнувшейся скамейке возле амбарушки. Объятия, поцелуи, ее стыдливость, его неуверенность и стеснительность, сладкое и мучительное ожидание встреч, неясные, тягостные своей нескорой сбывностью и в то же время томительно сладкие надежды. Обычное… Люди, конечно же, все это замечали, как без этого, деревня в те годы жила своей особой жизнью, и грязные сплетни о девушках распространялись на диво быстро. А когда женщина по-настоящему любит, она не слишком-то пугается огласки. Но шло время, и Николай стал замечать, что его вроде бы уже не так тянет к Марии. Нет, не то, тянет-то тянет, но любовь стала уже какой-то спокойной, уравновешенной, без тревог и страданий.
Что же дальше? А вот дальше как-то не так пошло. Тут, видимо, надо рассказать немного об отце нашего героя — Петре Клементьевиче, которого все звали просто Клементьичем. Вечно мрачный человек этот был известен в селе и ближних деревнях всем от мала до велика; он больше всех зашибал, громче всех орал на улице какие-то несуразные песни, похожие на вой. Лишь он один ходил по праздникам в соседнюю драчливую деревню без опаски, другие побаивались. Будучи под мухой, угоманивался только к ночи и так храпел, что невозможно уснуть. Смешно получалось: за окошками ветер тоскливо воет (дом стоял у реки, за рекой — поле, и тут завсегда выли, свистели ветры), а в избе храп, басовитый такой, с мощными переливами. Храп, вой, храп, вой. Осенью и весной отец часто появлялся на улице без шапки, удивляя баб («Простудится, лешак») и возмущая мужиков («Тоже нашел утеху»). Кто-то подбил ему ногу, и он чуть заметно прихрамывал. Когда отец был трезв, то по целым дням молчал, будто языка лишился, посапывал только да глядел на всех колко, недобро.
Клементьич считал, что он просто обязан как глава семьи учить уму-разуму свою «бабу» и отрока Кольку, особенно последнего. И словесно, и кулаками. И когда учил Кольку, то добавлял:
— А в другораз дам, что все наши мужики от стены не отдерут.
Так как желание учить у Клементьича появлялось часто, то Кольша нередко ходил с шишками и синяками.
Как теперь понимает Николай Петрович, отец буянил и безобразничал не столько от дурного характера и невежества, сколько от излишнего самолюбия, от желания непременно выпятить и показать себя. Устрашая своих и чужих, отец, видимо, чувствовал в те злобные минуты злобную радость.
Хозяйствовал Клементьич плохо, все как-то не везло ему: то лошаденка подохнет от неизвестной лошадиной болезни, то единственная старенькая коровенка утопнет в болоте, то еще что-нибудь, и в поисках денег он хватался за все — плотничал, столярничал, нанимался на поденщину к богатеям (за семью зайцами гнался), но все одно был голытьба голытьбой, это злило его, и, чтобы успокоиться, забыться на время, хлестал и хлестал бражку, которая всегда мутнела у него в старой ведерной бутыли на кухне.
Как-то осенью — дело было летом двадцать второго года — Клементьич заявил сыну, что намерен женить его на дочке местного богача Вере Глушковой, рослой, статной девке, которая жила с родителями в двухэтажном доме с балконом (единственным на все село) и щеголяла на вечеринках в ярких, дорогих платьях. Надо сказать, что многие девки поглядывали на Николая, был он в молодости хорош собой: строен, чубат, с немолодой притягательной печалью в глазах, и Вера тоже вроде бы поглядывала, но казалось ему, что уж старик Глушков подберет для дочки кого-нибудь побогаче. О Вере вообще как-то не думалось. И вот сейчас Клементьич твердил:
— Мы договорилися. И Верка не будет против. Так что ты тае… Радуйся, ядрена палка. Така невеста!
Когда Николай сказал, что у него есть Маша и уж если жениться, то жениться на ней, отец поднес к его носу кулак:
— А эту Машу видел? Видел, я тя спрашиваю?! Дурак ты этакий. Да у твоей Машки ни одного доброго платьишка нетука. А тятя ее и в ус не дует. У нее же никакого приданого.
— И не надо, — буркнул Николай.