Проданные годы. Роман в новеллах
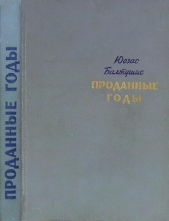
Проданные годы. Роман в новеллах читать книгу онлайн
«Я хорошо еще с детства знал героев романа „Проданные годы“. Однако, приступая к его написанию, я понял: мне надо увидеть их снова, увидеть реальных, живых, во плоти и крови. Увидеть, какими они стали теперь, пройдя долгий жизненный путь со своим народом.
В отдаленном районе республики разыскал я своего Ализаса, который в „Проданных годах“ сошел с ума от кулацких побоев. Не физическая боль сломила тогда его — что значит физическая боль для пастушка, детство которого было столь безрадостным! Ализас лишился рассудка из-за того, что оскорбили его человеческое достоинство, унизили его в глазах людей и прежде всего в глазах любимой девушки Аквнли. И вот я его увидел. Крепкая крестьянская натура взяла свое, он здоров теперь, нынешняя жизнь вернула ему человеческое достоинство, веру в себя. Работает Ализас в колхозе, считается лучшим столяром, это один из самых уважаемых людей в округе. Нашел я и Аквилю, тоже в колхозе, только в другом районе республики. Все ее дети получили высшее образование, стали врачами, инженерами, агрономами. В день ее рождения они собираются в родном доме и низко склоняют голову перед ней, некогда забитой батрачкой, пасшей кулацкий скот. В другом районе нашел я Стяпукаса, работает он бригадиром и поет совсем не ту песню, что певал в годы моего детства. Отыскал я и батрака Пятраса, несшего свет революции в темную литовскую деревню. Теперь он председатель одного из лучших колхозов республики. Герой Социалистического Труда… Обнялись мы с ним, расцеловались, вспомнили детство, смахнули слезу. И тут я внезапно понял: можно приниматься за роман. Уже можно. Теперь получится».
Ю. Балтушис
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из избы вышел хозяин, не спеша расстегнул ремень.
— Спускай штаны, заранее спускай, — сказал он, подходя. — Где был? Что делал всю ночь, а? Так ты пасешь мою скотину? Я тя научу пасти!
Говорил он все громче и громче, уже вплотную подошел ко мне и остановился напротив, словно черная грозовая туча. Я повернулся к Пятрасу. Тот стоял как ни в чем не бывало, глядел куда-то поверх крыш, еще и улыбался. Но улыбка эта была недобрая, язвительная. А хозяин уже схватил меня за ворот:
— Спускай штаны, говорю!
— Я не виноват… я заблудился… — бормотал я, никак не находя пуговицы.
— «Заблудился, заблудился»! Стегану тебя вот по всем заблуждениям! — замахнулся ремнем хозяин.
— Задай ему, задай, не жалей! — подбадривала из дома Розалия. — На голове ходят, житья нет больше от этих батраков!
И тут Пятрас одним махом очутился возле меня. Толканул меня за свою спину и выпрямился перед хозяином — большой такой, спокойный. Только его шея наливалась густой краской.
— Руку на мальчишку поднимать? А закон знаете? Что полагается за избиение мальчишки, слыхали?
Хозяин смутился, поглядел на меня, на Пятраса, не зная, что делать.
— Ага! — взвизгнула Розалия. — Не послушался родной матери, пустил большевика в дом! Вот и терпи, и терпи, и терпи! Своего же пастуха тронуть нельзя!..
Хозяин задвигался.
— Я ему всыплю закон — три дня кровью будет чихать! А скотину оставлять в лесу — закон? В убыток меня вводить — закон? Давай сюда мальчишку!
— Бери, — улыбнулся Пятрас, не трогаясь с места.
Хозяин засопел, и я увидел, как его глаза загорелись гневом. Кажется, так и схватит нас обоих с Пятрасом и уж так задаст, так задаст!
— Если ввел в убыток — ответит, — тихо сказал Пятрас. — Но ответит в суде, а не на твоем дворе.
И пошел к избе, ведя меня за руку. Затворив за собой дверь чулана, сел на скамейку, поманил меня, поставил между коленей, шлепнул ладонью по щеке.
— Дубина ты, дубина стоеросовая, — сказал он сердито. — Казенный у тебя зад, что ли? Какого черта ты с такой радостью подставляешь его под ремень? А еще мужик!
— Раз я виноват…
— Конечно, виноват, — подтвердил он. — Но разве за все зад отвечать должен? Если станешь так делать, то скоро и сидеть не на чем будет. И опять же — как ты позволяешь себя бить?
— Не знаю я…
— Не знаешь? — удивился он. — А кто же знает?
— Не знаю…
— А если я или, скажем, Она захотим тебя ударить? Ты и перед нами штаны спустишь? А?
— Ты меня не побьешь…
— А ты откуда знаешь?
И опять я не знал, что сказать. Он помолчал, стиснул меня коленями.
— Ты человек, — сказал он строго. — Пастушонка хозяева вместо собаки держат, но он — человек. А человека бить нельзя. Понял?
— Ага…
— Ни шута ты не понял, — улыбнулся он. — Ну, иди, переоденься в сухое. И закуси чего-нибудь. В животе, должно быть, кишка кишке кукиш кажет…
Он вышел. Достал я свою одежу, которая была сложена и увязана в узел, как учила когда-то мать. Но не успел я переодеться, а Пятрас опять пришел и принес краюшку хлеба и блюдце молока.
— У хозяев выпросил, — он весело рассмеялся. — Поешь и дуй к стаду. Меня работа ждет, есть мне когда с вами, растяпами, нянчиться.
Я навалился на еду.
Рано утром, чуть только заалело на востоке небо, Пятрас ткнул меня в бок и весело крикнул:
— Вставай! Уборка!
— Какая уборка? — пробормотал я, замирая от сладости утреннего сна. — Еще ночь… темно…
— Сейчас я тебе посвечу! — дернул он меня за плечи.
Оперся я обеими руками на постель, чтобы не упасть.
В чулане было почти темно. Измятая постель пахла потом, накопившимся за ночь теплом. Глянул на подушку: каждая складка ее посконной наволочки, каждое вылезшее перо неудержимо влекли к себе сказочной нежностью. И вот она, сама подушка, зашевелилась, приподнялась и прижалась к моей щеке…
— Опять лег! Может, упрашивать тебя надо?
— Сейчас, сейчас… — промычал я, глубже зарываясь в подушку. — Я только чуть-чуть… я сейчас…
Пятрас стянул одеяло, столкнул меня с кровати, и на полу я уже совсем проснулся. Вышли мы на двор. Пятрас схватил колодезный оцеп, опустил ведро на самое дно и достал воды, такой студеной, что дрожь пробирала при одном взгляде на нее. Выплеснул в корыто, зачерпнул еще и еще, снял с себя рубаху.
— Ну, чего стоишь как побитый? Стаскивай рубаху, иди сюда!
Сам он живо нагнулся над корытом и, отфыркиваясь, умылся, поливая себе плечи, спину, далеко разбрызгивая капли. Я смотрел вытаращив глаза. Раньше, бывало, если я и умывался, то лишь около полудня, когда вода в пруду нагревалась по-летнему. Но и тогда водил только пальцами вокруг носа, чтобы вода, сохрани бог, не попала куда не надо. И к чему умываться, когда так часто идет дождь и обмывает не только лицо, но и все прочее. А умываться так, в корыте, когда солнце еще за лесом, а от остывшей за ночь земли тянет холодом, как от церковного пола… Неслыханное дело! От одной только мысли о таком купании я дал стречка.
Пятрас сцапал меня уже за воротами. Стащил рубаху и без разговоров пригнул к корыту. Одной рукой держал, другой поливал мне спину и тер ладонью. Холод точно кнутом стегал по телу, — и ни убежать от него, ни вывернуться.
— Помираю! — заорал я что было мочи. — Иисусе, Мария, пусти!
— Никакая Мария тебе не поможет! — хохотал Пятрас. — Я тебя, размазню, выпрямлю, не будешь у меня ходить скрючившись.
Мимо прошел заспанный хозяин.
— Не в кутузке ли научился такому свинству?
— Может, и там. Вашего хлеба в кутузке даром не изводим, хорошему учимся.
Хозяин что-то буркнул, отвернулся. Пятрас крепко обтирался концом грубого полотенца. Другой конец набросил мне на плечо.
— Вытрись и ты, хорошенько оботрись, а то простудишься и будешь хворать. И запомни: каждое утро так будет.
Улыбнулся и добавил:
— Для глаз очень здорово.
Но здорово было не только для глаз. После этого невиданного купанья я мигом разогрелся в своей посконной рубахе, ноги и руки стали легкими, словно пружинили, и весь я чувствовал себя так славно, что запел, выгоняя скотину.
Нет, Пятрас был все-таки не такой, как Йонас, и не такой, как остальные. Многое он делал прямо наоборот, не понять его даже. Работал будто совсем не спеша, ходил медленно, вразвалку, но всегда приходил на место раньше других, и всякое дело так и горело в его руках. Возьмутся, бывало, с хозяином косы отбивать. Хозяин тюкает-тюкает молотком, высунув язык, не глядя по сторонам, а Пятрас давно уж отбил и, посвистывая, пробует лезвие ногтем большого пальца.
— Ты бы и мою отбил, — бормочет хозяин.
— Не было уговора.
Вышли хлеба косить. Пятрас помахивал косой, словно перышком, и шел далеко впереди всех, ровным рядом валя хрусткую, душистую рожь. А хозяин шел вприскочку позади. Его прокос почти наполовину уже Пятрасова, и тот растрепан, рожь ложится как попало — тут и полные бодяка комли, тут и колосья. Пятрас уж кончил прокос, стоит в конце гона, а хозяин лишь до половины добрел… Но Пятрас не спешит начать новый, медлит с косой на плече, «считает ворон». Хозяин долго кряхтит, хмурится, тяжело дышит разинутым ртом, даже пота не отирает, а все не доберется до конца.
— Мог бы и другой прокос пройти, — не утерпел он. — Руки не отвалятся…
— А ты мне другое жалованье будешь платить?
И так всегда.
Потом уж хозяин редко заговаривал с Пятрасом. Проронит слово-другое, покажет, где нынче косить или копнить, и идет дальше. Зато Пятрас начал заговаривать с ним чаще и чаще. Да как заговорил! Однажды в самую уборку яровых пришел он на обед. Вспотевший, нетерпеливый. Сел в чулане за стол, похлебал вместе с нами, как водится, чуть забеленных щей, заправленных ржаной мукой. Хлебал и молчал. Только когда Она хотела налить кислого молока, он поднял руку:
— Погоди.
Взял в руки горшок, повернул к окну. В горшке была желто-зеленая сыворотка, плавали комочки заплесневелого, скисшего и перекисшего молока, а среди них колыхались две утонувшие мухи.

























